В сентябре 2019 года на русском выходит одна из самых крутых и самобытных книг в мире фантастики последних лет. «Черный леопард, рыжий волк» ямайского автора Марлона Джеймса — это мрачное, жестокое фэнтези, основанное на мифологии западноафриканского племени йоруба.
Книга — крышесносная, экзотическая. Она написана так, словно ее читает речитативом сказитель, — история призвана ввести вас в транс, захватить, показать Нижний Мир, в котором нет добра и жалости.
Издательство «Эксмо» дало нам почитать роман еще до его выхода (ждите обзор!), а также разрешило опубликовать первую главу из книги. В ней Марлон Джеймс лишь намечает штрихами схему этой истории. Отсюда мы узнаем, кто такой Следопыт, насколько он жесткий чувак, и понимаем, как циничен и ужасен псевдоафриканский мир, в который нам предстоит погрузиться.

«ОДИН»
«Малец мертв. Больше и допытываться нечего. Слышал я, далеко на юге есть королевство, где королева убивала мужчину, принесшего ей плохую весть. Так, может, хотите послушать историю, в которой малец не такой уж и мертвый? Истина меняет вид, когда крокодил съедает с неба луну, и все ж моя история сегодня та же самая, какой была три дня назад и какой будет завтра, так что плевать на богов и тебя с твоими расспросами. Сидельцы здешние болтают про тебя. Говорят даже, что боги знают, какой ты скромник. Там, где другие кланяются, ты всем телом пластаешься у ног безумного Короля и зовешь его божественным сыном величайших из богов. Ты ко мне заявился пропахший мастикой для натирки дворцовых полов. До того скромник, что тебе, видать, писюн красной петушиной кровью омочили, когда ты родился. На юге нет такого? Ну, а у вас-то чем его смачивают?
Bi oju ri enu a pamo.
Не все, что зрит око, устам гласить следует.
Малец мертв, что еще остается знать? Истину? Истина разве единственное, что есть на юге?
Факты не облекаются ни в цвет, ни в форму, факты — это просто факты. Вот некоторые. Эта камера больше прежней. Нюхом я чую только высохшее дерьмо казненных, слышу только их все еще вскрикивающих призраков. В твоем хлебе полно тараканов, а вода твоя отдает мочой двенадцати стражников и козы, какую те поимели для забавы. Тебе истина нужна или история?
Так уж позволь поведать тебе историю.
Жила-была женщина, родившая ребенка от быка-буффало.
У того сына был сын от гиены. У того сына был сын от шакала.
Тот сын сладил сынка со змеей, что жила возле длинной тропы, обсаженной пятьюстами деревьями, которые отбрасывали полтысячи теней. Змея попробовала проползти сквозь деревья, петляя меж стволов, пока чересчур уж слишком не вытянулась и не сдохла. Когда змея сдохла, она стала речкой. Сын ее, горячо любивший мать, но не знавший любви к женщинам, построил у реки город. Река — это никакой не символ. Река — это река.
Слушай, и я расскажу тебе, что я просто человек, кого одни зовут Волком, а иные и того хуже.
Малец мертв. Та старуха принесла тебе иные вести? Я знаю, что ты говорил с ней. Ведьма говорила, что в голове у мальца бесы кишмя кишат. Никаких бесов, одна дурная кровь. Могу рассказать про его смерть.
Будешь слушать, тогда я начну с Леопарда.
Или с Ведьмы Лунной Ночи.
Или с Óго, а то ведь кто еще споет песнь по нему? У тебя вид человека, кто никогда не проливал крови. А все ж я чую ее на тебе. Кровь и кожицу. Ты не так давно мальчику обрезание делал.
Нет, я тебе не вопрос задал. Кровь все еще у тебя между пальцами. Глянь, как ты таишь, как сильно это волнует тебя, пальцами нос трешь, чтоб запашок ее уловить. Глянь на себя, Шаман.
Нет, стражу ты звать не станешь.
Изо рта моего слишком многое вылететь может, прежде чем мне его дубиной заткнут.
О самом себе подумай. Мужчина с двумястами коровами, кого в восторг приводит клочок мальчиковой кожицы и девчонка, какой не суждено стать женщиной ни для одного мужчины. Потому как раз это ты и ищешь, так? Темную такую пустяковину, какую не сыщешь ни в двадцати мешках золота, ни в двухстах коровах, ни в двухстах женах. Кое-что, тобой потерянное… нет, отнятое у тебя. Тот свет, ты видишь его, и ты хочешь его, не свет от солнца или от бога грома в ночном небе, а свет безо всякой порчи, свет в мальчишке, не сведущем о женщинах, в девчонке, что ты купил себе в жены, не потому, что тебе жена нужна, ведь у тебя есть двести коров, а нужна тебе такая жена, которую ты можешь первым прорвать, потому как ты ищешь его, свет этот, в дырах, черных дырах, мокрых дырах, в неразросшихся дырах, тот свет, что ищут вампиры, и ты получишь его, ты облачишь его в обряд: обрезания для мальчика, вступление в супружеские обязанности для девочки, — и, когда прольют они кровь, и слюну, и сперму, и мочу, ты все это на своей коже оставишь, чтобы отправиться к дереву ироко и воспользоваться первым же попавшимся дуплом.
Малец мертв, и все остальные тоже.
Я каземата этого не помню. Или что эти два окна в углу сходились. И что стена эта коричневая, а не серая. Это ведь не тот самый каземат, зачем тебе утверждать это? И почему начинаю я думать, будто ты огорчен тем, что видишь меня? В том, должно быть, дело. Ты допрашивать мастак, понятно мне, почему ты безъязыкий.
Меня тут быть не должно бы.
Разговор в этих стенах суров. Слышу, как твоя новая жена берет твоего сына, стоит тебе уснуть. Ты знал, что в моей камере семеро было? Четыре ночи назад. Платок, что у меня на шее, принадлежал тому единственному, кто вышел на своих двоих. Он, может, когда и правым своим глазом снова глядеть сможет.
Других же шесть. Записывай, как я скажу.
Старики говорят, ночь — дура. Что ни сделай, она не осудит, но и не упредит. Первый подошел к моей постели. Было уже темно, так что одни тени да запахи двигались. Один нес с собой запах свежего говна на пятках, оно странно, ведь никаких животных тут не было. От другого несло духами проститутки. Я проснулся и увидел предвестника моей собственной погибели, им был мужик, сдавивший мне горло. Пониже, чем Óго такой, но повыше лошади. Вонял так, будто весь базар при себе нес. Схватил меня за шею и в воздух вздел, пока остальные в сторонке помалкивали. Попробовал я его пальцы разжать, да в хватке у него сам дьявол сидел. Колотить его в грудь было все равно, что колотить в камень. Держал он меня на весу, будто драгоценным камнем любовался. Двинул я ему коленом в челюсть, да так, что он зубами себе язык откусил. Он меня бросил, и я, будто бык, на его яйца набросился.
Упал он, а я схватил его нож, острый как бритва, и резанул ему по горлу. Двое меня за руки схватить хотели, да я голый был и скользкий. Его нож — мой нож — всадил меж ребер и слышал, как сердце у одного лопнуло. Третий ногами кренделя выделывал, кулаками тряс, плясал, как муха ночная, и зудел, как комарик. Я-то кулак сжал да два пальца выставил, как уши у кролика. Раз — ткнул ему в левый глаз, да и вытащил его весь целиком. Он заверещал. Глядя, как он ползает по полу, отыскивая свой глаз, я позабыл еще о двоих. Жирдяй сзади на меня кинулся, я пригнулся, он через меня перелетел и упал, а я прыгнул, схватил камень, что мне подушкой служил, и бил его по голове, пока морда его месивом не запахла. Последним был мальчишка. Он орал. Слишком расстроен был, чтоб о жизни молить. Посоветовал я ему быть мужчиной в следующей жизни, потому как в этой он и на червяка не тянул, и полоснул его ножом прямо по горлу. Кровь его в пол ударила раньше, чем малый на коленки пал. Я позволил полуслепому в живых остаться, потому как нужны женам по ходу жизни всякие истории, а, Жрец? Инквизитор. Не знаю, как и звать-то тебя.
Ладно, те — не твои люди. Хорошо. Значит, не придется тебе песнь смертную петь их вдовам. Ко мне днем люди приходили и грозили из меня обезьяну сделать, а потом еще ночью люди приходили, грозили, чтоб вел себя, как мышка. Тебе нужно либо мое признание, либо мое молчание, но не требуй и того, и другого.
Ты, кажись, недоволен, что я все еще тут с тобою заперт, но я в выражениях лиц не силен. Потому-то и доверяю своему нюху. Что тут увидеть предстоит, известно как ложь. Хотя если ты еще дальше свой стул отодвинешь, то наверняка из окна выпадешь. Уповай на Итуту, молю тебя. Итуту, нетрепетность и покой разума и сердца, превыше всего. Как вы на юге это зовете, или юг не так крут, чтоб в покое пребывать? Я мог бы ухватить тебя за шею и сломать ее, потратив меньше сил, чем мне требуется, чтоб кистью шевельнуть. Мог бы по кадыку тебе врезать, прежде чем ты стражу крикнул бы. Схватил бы сиденье, на каком сижу, да гвоздал тебя по башке, пока из тебя соки не потекут, и что бы тогда делать твоей девочке-жене, Жрец? Чья жизнь вовсе обеднела бы в твое отсутствие?
Ладно, успокойся, Жрец, Инквизитор, кто ты ни есть. Во мне меньше ненависти к тем, кто допрашивает, чем к тем, кто богам служит, а ты мне и впрямь нравишься. И, прошу, не подавай знаков страже. Не я буду заперт тут с ними — они окажутся тут взаперти со мной, а судьба жестоко обошлась с твоими первыми семью. Я тут не за тем, чтобы убивать, и тебе не тут умирать. Ты пришел сюда за сказанием, разговорил меня так, чтоб боги нам обоим улыбнулись.
День за днем шел я по бушу и по песку, под солнцем и в дождь, днем и ночью. До того долго, что и не помнил, куда забрел и когда, да и не волновало меня ни то, ни другое. Это — правда.
Да, это правда: когда меня нашли, не было на мне никакой одежды, — только в этом ничего нового. Белые полосы вдоль рук. Белые знаки по всей моей груди и на ногах, на звезды похожие. Траур, говоришь? Признание вины? Бывает, что белые звезды, нанесенные белой глиной, — это белые звезды, нанесенные белой глиной.
Замели меня как бродягу, за вора приняли, пытали как предателя, а когда известие о смерти мальца долетело до вашего королевства, арестовали как убийцу. Ложь в этом каземате привольно льется… Я не сказал, что из твоего рта.
Белые звезды носил он в великой печали и в знак великой вины по случаю смерти. Такое громадное горе ему никогда не одолеть, разве что богам поднести их как звезды и молить, чтоб взяли их обратно на небеса. Ничего из этого не я сказал — ты сболтнул.
Знак — это всего лишь знак.
Я сказал: знак — это всего лишь знак.
Так желаешь послушать эти истории или нет?
Жил в Пурпурном Городе купец, о ком говорили, что он жену потерял. Пропала она с пятью золотыми кольцами, с десятью и еще двумя парами серег, двадцатью и еще двумя ручными и десятью и еще девятью ножными браслетами. «Говорят, у тебя нюх есть отыскивать то, что иначе так и осталось бы пропавшим», — сказал купец. Мне тогда под двадцать лет было, и я уже давно был отлучен от отцовского дома. Купец решил, что я что-то вроде пса-ищейки, а я сказал: ну да, говорят, что у меня нюх есть. Он швырнул мне что-то из нижнего белья своей жены. След ее был до того слаб, что почти омертвел, зато привел он меня в три деревни. Может, знала она, что рано или поздно люди выйдут на охоту, потому как было у нее по хижине в трех деревнях, и никто не мог сказать, где она жила. Каждый дом вела девушка, в точности похожая на нее и даже откликавшаяся на ее имя. Девушка в третьей хижине пригласила меня войти, указала на скамейку, мол, садись. Спросила, не мучит ли меня жажда, и направилась к кувшину со сладким пивом масуку раньше, чем я «да» успел сказать. Позволь напомнить, что зрение у меня обыкновенное, зато, как было сказано, нюх отменный. Так что, когда принесла она кувшин с пивом, я уже учуял отраву, какую она в него бросила, такой жена мужа травит, плевок кобры называется, она теряет вкус, когда с водой смешивается. Протянула мне кружку, я ее взял, схватил руку девушки и заломил ей за спину. Поднес кружку к ее губам и стал край пропихивать сквозь стиснутые зубы. Тут слезы полились, и я убрал кружку.
Девушка привела меня к своей хозяйке, жившей в хижине у реки. «Муж мой бил меня так сильно, что у меня выкидыш случился, — поведала та. — Есть у меня пять золотых колец, десять и еще две пары серег, двадцать и еще два ручных и десять и еще девять ножных браслетов, я их тебе дам, а еще ночь со мной в постели». Я взял четыре ножных браслета и отвел ее обратно к мужу, потому как его деньги мне были нужнее ее драгоценностей. Потом я сказал ей, чтоб девушка из третьей хижины угостила его пивом масуку.
Вторая история.
Как-то ночью отец мой вернулся домой, весь пропахший какой-то рыбачкой. От него несло ею, а еще деревом доски для игры в баво и кровью мужчины, но не отцовой. Отец играл с одним бингва, мастером баво, и проиграл. Бингва потребовал свой выигрыш, а отец схватил доску баво да треснул ею мастера по лбу. Отец утверждал, что забрел на постоялый двор подальше, чтоб выпить, баб пощипать и в баво поиграть. Он лупил своего соперника доской до тех пор, пока тот шевелиться не перестал, после чего ушел из бара. Только от него ничуть не пахло потом, не очень-то сильно пыль чувствовалась, дыхание ничуть не отдавало пивом — ничего такого. Был он не в баре, а в притоне Опиумного монаха.
Так вот, пришел отец домой и с криком велел мне вылезать из зернового амбара, где я обитал, потому как к тому времени из дома папаша меня вытурил.
— Иди сюда, сын мой. Садись и сыграй со мной в баво! — орал он. Доска лежала на полу, многих зернышек не хватало. Слишком многих для хорошей игры. Только папаша мой желал не играть, а выиграть.
Ты, Жрец, наверняка знаешь про баво, если нет, то я должен тебе разъяснить. На доске четыре ряда по восемь лунок, у каждого игрока по два ряда. Каждому игроку полагается по тридцать два зерна, но у нас было меньше, уж не помню, по скольку в точности. Каждый игрок кладет шесть зерен в лунку нюмба, но мой папаша положил восемь. Мне б сказать, отец, ты что, играешь по-южански, по восемь вместо шести? Да папаша мой не тратил слов там, где можно тумака дать, а бивал он меня и за меньшее. Всякий раз, как я зерно бросал, он тут же говорил «взято» и забирал мои зерна. Только его сильно тянуло выпить, и он потребовал пальмовой водки. Мать моя принесла ему воды. Он схватил ее за волосы, отвесил две оплеухи и рявкнул: «Чего голосишь? Твоя кожа еще до заката про все забудет». Мать не доставила ему удовольствия полюбоваться на ее слезы, она ушла и вернулась с водкой. Я принюхивался, нет ли яда, и был бы рад его почуять. Меж тем, пока папаша мать лупил за то, что она колдовство в ход пускала, чтоб либо свое старение замедлить, либо ускорить отцово, он зевнул в игре. Я посеял свои зерна: по два в лунку до самого конца доски — и забрал его зерна.
Папашу это не обрадовало.
— Ты загнал игру в бесконечный посев, — сказал он.
— Нет, мы только начинаем, — заметил я.
— Да как ты смеешь говорить со мной так непочтительно, зови меня «отец», когда обращаешься ко мне!
Я ничего не сказал и заблокировал его на доске.
У него во внутреннем ряду лунок не осталось зерен, и он не мог ходить.
— Ты смухлевал, — заявил он. — На твоей доске больше тридцати двух зерен.
— Ты то ли ослеп, — заметил я, — то ли считать не умеешь. Ты посеял зерна, и я взял их. Я посеял зерна по всему своему ряду и стеной отгородился, а у тебя нет зерен, чтоб ее пробить.
Отец шлепнул меня по губам, не успел я и всех слов произнести. Я упал со скамейки, а он схватил доску баво, намереваясь ударить меня ею, как он бингва треснул. Но папаша мой был пьян и неповоротлив, а я недаром время тратил, наблюдая у реки за тем, как оттачивают свое искусство мастера борьбы нголо. Он взмахнул доской, и зерна взметнулись россыпью в небо. Я раза три перевернулся назад через голову — так на моих глазах делали борцы нголо — и припал к земле на четвереньках, словно поджидающий добычу гепард. Отец крутился, отыскивая, куда я подевался, будто я пропал куда.
— Выходи, ты, трус. Трус, как все вы, ку по крови. Трус, как мать твоя, — выкрикивал он. — Вот почему мне в радость бесчестить ее. Как и ты, она не выказывает ничего, кроме покорности. Сперва я тебя изобью, потом ее изобью, что тебя таким вырастила, что ты подстилкой для мужиков будешь.
Яростный, как туча, что опустошила мой разум и вычернила сердце, я подпрыгнул и забил ногами в воздухе, раз за разом все выше.
— Ну вот, теперь он зверьком прыгает, — сказал отец.
И пошел на меня. Только я был уже не мальчик. Я набросился на него в маленьком помещении, нырком уперся ладонями в землю, направив их к ногам, и, взметнув ноги в воздух, перевернулся вперед через голову, колесом изогнув все тело, колесом накатил на него, зажав его шею меж своих ног, и жестко повалил. Голова отцова так сильно грохнулась о землю, что мать снаружи услышала треск. Мать моя вбежала в дом и закричала:
— Дитя, оставь его! Ты обоих нас погубил!
Я глянул на нее и сплюнул. Потом ушел. То был первый и последний раз, когда я слышал, как папаша заговорил про Ку.
У сказки этой два конца. По первому концу, ноги мои сплелись вокруг отцовой шеи, толкнули его на землю и сломали позвонки у черепа. Он умер прямо там, на полу, а моя мать дала мне пять каури, завернутое в пальмовый лист сорго и отправила прочь. Я обещал ей, что уйду, не взяв ничего из принадлежавшего отцу, даже из одежды. И с тех пор по собственному своему выбору я не носил на себе ничего, сделанного человеком, не считая этих браслетов на ногах, иначе как люди известят мою мать, когда я стану трупом?
По второму концу, шею я ему не ломаю, но все равно он ударяется оземь головой, которая трескается и кровоточит. Очухивается папаша придурком. Мать моя дает мне пять каури, сорго, завернутое в банановый лист, и говорит: уходи отсюда, дядья твои куда как хуже него.
й лист, и говорит: уходи отсюда, дядья твои куда как хуже него. Имя мое было отцовой принадлежностью, так что я оставил его у ворот. Одевался отец всегда в прекрасную одежду, шелка из земель, каких он никогда не видывал, сандалии от мужчин, что были должны ему деньги, — все делал, чтобы заставить себя забыть, что он выходец из племени, жившего в речной долине. Я оставил отцовский дом с желанием, чтоб ничто не напоминало мне о нем. Не успел я уйти, как старое воззвало ко мне, и мне захотелось снять с себя все до последнего клочка. И пахнуть, как мужчина, а не духами городских баб да евнухов. Люди глядели на меня с презрением, какое приберегали для обитателей болот. А я буду переть вперед, набычившись, будто призовой зверь. Льву не надобен наряд, не нужен он и кобре. Я направлюсь к племени Ку, откуда был родом мой отец, пусть дороги туда я и не знал.
Третья история.
Меня зовут Следопыт. Когда-то у меня было имя, только я его давно забыл. Следопыт — это мне по ноге и пыль вздымает, понуждая людей забыть меня, так что подойдет. Люди не дожидаются, пока гриоты сложат сказание в стихах, — сами их слагают. В городах и деревнях говорят: вы слыхали про Следопыта? Как-то посреди месяца waxabajjii на четвертой луне он отыскал мертвого Короля. Я нашел последнего детеныша жирафа, чернокожего с белыми пятнами, которого украли пираты и продавали тому, кто больше всех даст. Последнего живущего из племени Дар, безымянного мужчину, я отыскал в безбожном городе.
Потом еще был мальчик, чье тело я нашел под домом убившего его брата.
Королева королевства на западе заявила, что хорошо мне заплатит, если я найду ее Короля. Придворные решили, что она умом тронулась, ведь Король был мертв, пять лет назад как утонул, но мне труда не составило отыскать мертвеца. Что делать с мертвым, для меня совсем не загадка. Королевские придворные никогда не видели человека с белыми полосами на руках, груди и ногах, со лбом и носом тоже выбеленными, с двумя топориками и копьем. Я взял задаток и отправился туда, где обитали мертвые утопленники.
Я родом из речного племени. Мы знаем, куда они уходят, где всплывают и куда плывут. Имо — это просто река, но в зеркальном отражении полудня мертвых она — путь в земли мертвых. К Мононо, мертвому городу, где мертвые встают с восходом солнца и занимаются тем же, что и живые. Приходится шагать по реке. Берега заведут вас очень далеко. Река, спокойная минуту назад, в следующую минуту бесится, будто в бурю, но вы должны идти и идти. Шагаете себе и шагаете.
Я шагал себе, пока не подошел к сидевшей на берегу старухе с высокой клюкой.
Ее волосы с боков были белыми, на макушке лысина. Лицо испещрено линиями, как лес тропинками, а желтые зубы говорили о зловонном дыхании. В сказаниях говорится, что каждое утро встает она молодой и прекрасной, днем приятно цветет полным цветом, с наступлением ночи становится старой каргой и в полночь умирает, чтобы в следующий час заново родиться. Горб на ее спине поднимался выше головы, зато глаза сверкали, так что разум ее был остер. Рыбы подплывали прямо к кончику ее клюки, но никогда не заходили дальше.
— Ты зачем пожаловал в эти места? — произнесла старуха.
— Это путь к Мононо, — сказал я. — С чего такой вопрос?
— Я не задавала вопрос. Ты зачем заявился сюда? Ты, живой человек?
— Жизнь есть любовь, а у меня никакой любви не осталось. Любовь исторглась из меня и побежала к реке вроде этой.
— Ты не любовь потерял, а кровь. Я позволю тебе пройти. Но когда я возлегаю с мужчиной, то живу без смерти целых семьдесят лун.
Так что поимел я старую каргу. Она спиной на берегу лежала, а ногами в реке. Сама — кожа да кости, но я был полон сил и не дал ей пощады. Что-то плавало у меня меж ног, похожее на рыбок. Рука ее коснулась моей груди, и полоски мои волнами пошли вокруг моего сердца. Я засаживал ей, поражаясь ее молчанию. В темноте чувствовал, как она молодеет, даром что она старела. Внутри меня расходилось пламя, растекаясь до кончиков пальцев и до моего кончика внутри нее. Воздух сгустился вокруг воды, вода сгустилась вокруг воздуха, и я завопил, исторг и дождем пролился ей на живот, на руки, на груди. Дрожь пять раз ломала меня. Старуха была и оставалась каргой, но я не был внакладе. Она черпанула мой дождь на своей груди и смахнула его в реку. И тут же рыбы метнулись вверх, ушли вглубь и снова метнулись вверх. Это была ночь, когда тьма съедала луну, но рыбы в самих себе носили свечение. У рыб были головы, руки и груди женщин.
— Иди за ними, — сказала старуха.
Я следовал за ними день, ночь и еще день. Порой речка мелела до того, что вода доходила мне до лодыжек. Иногда поднималась по горло. Вода смыла все белое с моего тела, оставив нетронутым одно лицо. Рыбо-женщины, жено-рыбы день за днем, день за днем вели меня, пока мы не дошли до места, описать какое я не в силах. То ли стояла река стеной, стояла твердо, хотя я и мог просунуть сквозь нее руку, то ли река круто изогнулась вниз, а я все равно мог шагать, касаясь ногами земли, и тело мое стояло, не падая.
Порой единственным путем вперед был путь сквозь. Вот я и шагал сквозь. Я не боялся.
Не могу сказать тебе, останавливался ли я, чтобы подышать, или дышал прямо в воде. Знай себе шагал, а вода вокруг меня играла моими распущенными волосами, полоскала под мышками. Потом я дошел до такого, чего никогда не видел во всех королевствах. В чистом поле травы замок, сложенный из камня высотой в два, три, четыре, пять, шесть этажей. В каждом углу по башне с крышей куполом, тоже из камня. На каждом этаже в камне окна прорезаны, а ниже окон настил с золотым ограждением, который Король называл террасой. А от здания шел коридор, соединявший его с другим зданием, и еще коридор, соединявший с еще одним зданием, так что по квадрату стояло четыре соединенных замка.
Ни один из этих замков не был такой же огромный, как первый, а последний и вовсе в руинах лежал. Когда вода исчезла, оставив в покое камень, траву и небо, я сказать тебе не смогу. Увидел деревья, их прямые линии тянулись насколько хватало глаз, увидел квадратики садов и круги цветочных клумб. Даже у богов не было такого сада. Уже перевалило за полдень, и королевство опустело. Легкий вечерний бриз то вздымался, то стихал, а ветры грубо шастали мимо меня, будто толстяки в спешке. К заходу солнца задвигались мужчины, женщины и звери, то попадаясь на глаза, то исчезая из виду, они появлялись в тенях, исчезали в последних солнечных лучах и появлялись вновь. Шагали мужчины с женщинами и детьми, какие походили на мужчин, женщин и детей. И мужчины, что были голубыми, и женщины, что были зелеными, и дети, что были желтыми, с красными глазами и щелями жабр на шее. И существа с травой вместо волос, и лошади о шести ногах, стайки лесных духов абада с ногами зебр, ослиной спиной и носорожьим рогом во лбу бегали опять-таки в окружении детишек.
Желтый карапуз подошел ко мне и спросил:
— Как ты сюда попал?
— Я прошел по реке.
— И Итаки тебе позволила?
— Итаки я не знаю, только старую женщину, что пахнет мхом.
Желтый карапуз сделался красным, глаза его побелели. Явились родители и забрали его. Я встал и по двадцати футам ступеней поднялся в замок, где еще больше мужчин, женщин, детей и зверья смеялись, беседовали, судачили и сплетничали. В конце коридора на стене висели панели с отлитыми в бронзе изображениями войн и воинов, в одном из них я распознал битву среднеземельцев, где было убито четыре тысячи человек, а на другом битву полуслепого Принца, кто всю свою армию повел вниз с утеса, какой по ошибке принял за холм. Внизу стены стоял бронзовый трон, сидевший на нем мужчина казался мелким младенцем.
— Это глаза не богобоязненного человека, — изрек он.
Я понял, что это Король, а то кто ж еще? И сказал:
— Я пришел вернуть тебя обратно к живым.
— Слух о тебе, Следопыт, прошел даже по землям мертвых. Только напрасно ты время потратил и жизнью рисковал попусту. Не вижу ни единого повода для возвращения, ни единого основания для себя и ни единого для тебя.
— У меня основания ни для чего нет. Я нахожу то, что люди потеряли, а твоя Королева потеряла тебя.
Король засмеялся.
— Вот мы сейчас в Мононо, ты — единственная живая душа и все же мертвейший из мертвецов при моем дворе.
Хотелось бы, чтоб народ понимал: у меня времени на такие споры нет. Я ни за что не борюсь, и нет ничего, за что я стану сражаться, а потому нечего мне время терять, чтоб драки затевать. Только вскинь кулак — и я сломаю его. Только болтни языком — и я его у тебя изо рта вырежу.
В тронном зале у Короля никакой стражи не было. Так что двинул я к нему, следя за следившей за мной толпой. Король не взволновался и не испугался, лицо его, лишенное всякого выражения, будто говорило: чему быть, того не миновать. В десятке и еще пяти шагах от Короля я остановился. Помнится, никакая стража не обходила ни внутренние, ни внешние покои. Четыре шага вели к основанию, на каком стоял его трон. Два льва у его ног, так я до сих пор не соображу, были ли то духи, божки какие или мертвые. Он же все еще оставался маленьким невзрачным человечком. Круглое личико с двойным подбородком, большие черные глаза, плоский нос с двумя кольцами и тонкогубый рот, словно был он восточных кровей. Он носил золотую корону поверх белого платка, скрывавшего волосы, белый халат с серебристыми птицами и поверх халата пурпурный нагрудник, тоже обшитый золотом. Я мог бы взять его одной левой.
Никто не остановил меня, пока я шагал прямо к трону. Львы не шелохнулись. Я тронул медный подлокотник, отлитый в виде поднятой львиной лапы, и надо мной раздалось хлопанье сильных крыльев, тяжкое, неспешное, черное по звуку и оставлявшее гнилостный запах ветра. Вверху, на потолке, — ничего. Я еще вверх глазел, как Король вытащил из ножен кинжал и вонзил в мою ладонь так крепко, что лезвие вошло в подлокотник и застряло.
Я вскрикнул, он же рассмеялся и откинулся в глубь своего трона.
— Ты, может, полагал, что потусторонний мир чтит свое обетованье быть землей, свободной от боли и страданий, только обещано это было мертвым, — произнес он.
Никто не рассмеялся вместе с ним, но все — пялились.
Король сидел себе, разглядывал меня, выгнув бровь и поглаживая подбородок, а я, ухватившись за кинжал, вырывал его, рывок заставил меня вскрикнуть. Король прыгнул, когда я оборотился к нему, только я ухватил его за халат и, пустив в ход кинжал, вырвал из него кусок ткани. Король все еще смеялся, пока я себе руку перевязывал.
Король обманулся, как обманываются и все остальные. Ошибочно принял меня за правшу. Я врезал ему прямым в лицо, и только тогда толпу колыхнул ропот. Я услышал позади гибельные шаги, приближавшиеся к трону, и обернулся. Толпа встала. Во всем зале всего один человек должен был испытывать страх смерти, и все ж они боялись меня.
Нет, они сдерживались. На их лицах ничего: ни страха, ни гнева — чистый интерес.
И тут толпа — все как один — отпрыгнула, взирая мимо меня на Короля. Обернувшись, я увидел, что он стоит, в руке львиная лапа, вобравшая добрую толику моей крови. Король зашвырнул лапу в воздух под самый потолок, и толпа охнула. Едва лапа ударилась оземь, придворные подались назад, кое-кто сзади пустился бежать. Кто-то в толпе кричал, но крикам вторило эхо, кто-то вопил, но вопли стихали на востоке и вновь поднимались на западе. Мужчина бежал по женщине, бегущей по ребенку. Король смеялся.
Я только и слышал вокруг: Омо, Омо, Омо. Потом треск, потом разрыв, потом пролом, будто бог какой крышу срывал. «Омолузу», — произнес кто-то. Омолузу. Крышеходцы, ночные демоны из века за век до нашего.
Я понял, что сделал Король, даром что не видел этого.
— Они попробовали твоей крови, Следопыт. Омолузу никогда не перестанут преследовать тебя.
Я схватил его руку и располосовал ее. Он заорал во всю глотку, как речная девица, меж тем потолок сдвинулся, заскрипел, затрещал, запыхал, но оставался на месте. Я его рукой прикрывал свою, а он в это время шлепал меня ладошками и пинал, как маленький мальчишка, пытаясь вырваться, я же собрал его кровь. Первая фигура отлепилась от потолка, когда я швырнул его королевскую кровь в воздух.
— Теперь обе наши судьбы на крови замешены, — сказал я.
Улыбка его испарилась, уступив место страху. Ужасу. Челюсть у Короля отвисла, глаза выкатились. Я схватил его руку и потащил его за собой вниз по ступеням, когда от потолка, от тьмы, отлепились еще три фигуры, погружая все вокруг во мрак. Я встал посмотреть. Король рванул бегом прочь, визжа. Мужчины, черные телом, черные с лица, черные там, где глазам полагалось бы быть, отлеплялись от потолка, будто из ям выбирались. И когда вставали во весь рост, то стояли на потолке, в точности как мы на земле стоим. От омолузу исходили лезвия света, острые, как мечи, и дымящиеся, как горящий уголь.
Они набросились. Я побежал, слыша, как отскакивают они от потолка. Подпрыгнув, крышеходец не падал на пол, а вновь приземлялся на потолок, будто бы это я стоял вверх ногами. Я бежал во внешний дворик, но двое опередили меня. Спрыгнув вниз, они взмахнули своими мечами, двумя разом. Копье защитило меня от обоих ударов, но сила их сбила меня с ног. Один напал на меня, искусно орудуя мечом. Я качнулся влево, ушел от его клинка и вонзил копье прямо ему в грудь. Копье продвигалось по чуть-чуть, будто смолу пронизывало. Он отпрыгнул, утащив с собой мое копье. Я вытащил меч. Двое сзади схватили меня за лодыжки и протащили меня до потолка, где ночным морем кружила в водоворотах тьма. Я располосовал мечом черноту, обрубил им конечности и, как кошка, приземлился на пол. Еще один попытался схватить меня за руку, но я схватил его и притянул к земле, где он исчез струйкой дыма. Один подобрался ко мне сзади, я уклонился, но его клинок поймал мое ухо, и оно горело. Обернувшись, я отбил его клинок своим, и искры посыпались в темноте. Он отпрянул. Руки и ноги у меня заходили, как у мастера нголо. Я перекатывался и кувыркался, рука за ногу и за руку, пока не отыскал свое копье возле внешних покоев. Горело множество факелов. Я бросился к первому же и погрузил кончик копья в воск и пламя. Двое оказались прямо надо мной. Я слышал, как изготовили они свои клинки, чтобы разрубить меня надвое. Только я подпрыгнул с горящим копьем и проткнул их обоих. Оба вспыхнули пламенем, которое разбежалось по потолку. Омолузу рассеялись.
Я пронесся через внутренний покой, вниз по коридору и выскочил через дверь, где шаги прекратились. Снаружи луна из моего мира лила слабый свет на этот мир, вроде как свет через стекло сочился. Маленький толстяк-Король далеко не уходил. Он даже не бежал.
— Омолузу появляются там, где есть крыша. Ходить прямо по небу они не могут, — сказал он.
— Как же жене твоей эта сказка понравится!
— Да что ты знаешь про любовь, какую кто-то испытывает к кому-то?
— Давай двигай.
Я схватил его за руку и потащил за собой, только там еще проход был, шагов в пятьдесят. Мы оба остановились. Сделали пять шагов — потолок стал крошиться на куски. Тогда мы побежали. Еще одиннадцать шагов — и они уже бежали по потолку так же быстро, как мы по земле, и маленький толстяк-Король стал от меня отставать. Десяток и еще пяток шагов — и я ушел от удара клинка, ринувшегося смахнуть мне голову и смахнувшего корону с головы Короля. Счет шагам я потерял после десятка и еще пяти. Одолев половину прохода, я схватил факел и швырнул его в потолок. Один из крышеходцев загорелся и упал, но исчез дымком, даже не долетев до земли. Мы опять бросились наружу.
Вдалеке стояли ворота с каменной аркой, ширина которой никак не позволяла появиться омолузу. Однако, когда мы под ней пробегали, двое спрыгнули с потолка, и один из них располосовал мне спину. Где-то между пробежкой к реке и проходом сквозь стену воды я потерял обе свои раны и память о том, где они были. Я ощупывал кожу, шлепал по ней, уверенный, что вскрою порезы. Потом тер свои глаза, пока они гореть не стали. Только не было на коже моей никаких отметин.
Заметьте, обратное путешествие в его королевство длилось куда дольше, чем путешествие в его земли мертвых. Немало дней прошло, прежде чем мы встретили Итаки на речном берегу, только была она не старухой, а всего лишь маленькой девочкой, плескавшейся в воде и смотревшей на меня с лукавством женщины, вчетверо ее старше. Когда Королева встретила своего Короля, она принялась ругаться, оскорбляла и била его так крепко, что я понял: каких-нибудь несколько дней — и он снова утопится.
Знаю, что за мысль у тебя сейчас промелькнула. Вроде как дух тебе в голову вселился и оставил след смятения на твоем челе. Ты не можешь даже помешать бровям выгибаться над твоим глазом, чем выдаешь себя. Этот Король повинен во многих преступлениях, был он трусом и убийцей, продавал рабов дьяволам, но он не был лжецом. Любезный Жрец, постарайся не позволять волнению связывать тебе язык, не надо так старательно не поднимать взгляда. Я мог бы прямо сейчас крикнуть омолузу, и ты рванул бы в дверь, не позаботясь открыть ее, обделываясь, писаясь и криком крича разом. Король в этом сказании не говорил, что крышеходцы станут преследовать меня всю мою жизнь. И все сказания правдивы
А, да, полагаю, в одном мы оба можем согласиться.
Над нами — крыша».

Надеемся, вам понравился фрагмент. Должны сказать, что дальше будет только интереснее и намного безумнее. Мир, который мы увидим в следующих главах, приближается ко вселенной Толкина по сложности взаимодействия ее элементов. «Черный леопард, рыжий волк» — это афро-бэд-трип, в который хочется возвращаться снова и снова.
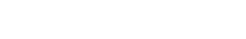
Хрень какая-то
Не осилил
Хорошо. Очень хорошо. Как глава-фэнтези в «Улиссе» Джойса.
.
Многообещающий фрагмент
чтобы осилить слог и мысль нужно хорошо курнуть наверно
Субъективно: хуерга какая-то. Поток сознания. Не вижу никакой литературной ценности.
Еще ни разу не признавался в любви к DM, но читаю давно. Для меня вы, ребята, достойные продолжатели раннего Хулигана, с супер качественным контентом! Браво!
Ну вот я и узнал, что Fanzon это придаток Эксмо. И это круто, так как много книг от них в последнее время покупаю, плюс ещё и моего любимого Тэда Уильямса издают.
Видимо для того, что бы осилить эту книгу, важно что бы сознание было подготовлено к подобному.
Как говорил Иллидан «Вы(в данном случае я) не готов(ы)».
Каждому по потребностям. Кому то вот Death Standing понравился. Как по мне- какая то невнятная стелс хуета.
Книга отличная. Не совсем понятно, почему ямайская — по месту рождения автора, что ли?
сейчас 90% издательств придатки холдинга Эксмо-Аст и в этом мало чего крутого.
Круто в том плане, что Эксмо оказывается может в нормальные обложки и переводы. Я откровенного мусора от фанзон пока не встречал из того, что купил.
Хоспади, вот вы докопались.
У меня нет заблуждений: я рад, что есть такое издательство, как Fanzon.
Уведомление: Безумное ямайское фэнтези. Отрывок из книги «Черный леопард, рыжий волк» | SAMARAPRESS.RU
Книга полная мешанина крови, секса и мифов. Интересные идеи, которые утонули в потоке кала. Впрочем как и первая книга автора.