Об этом человеке не узнать из школьной программы, а в университетах не каждый преподаватель философии или литературы считает нужным рассказать о нем подробно. Эрнст Юнгер прошел две мировые войны и написал множество прекрасных художественных и философских текстов, а также уникальные по своему содержанию и прекрасные по стилю дневники. Описанная в них жизнь Юнгера представляла собой одно большое приключение, занявшее почти весь XX век. Одна из причин, почему вы могли не знать об этой ходячей машине времени, проста: воевать Юнгеру выпало на не самой привлекательной в свете истории стороне — Германии. Ну, правда: столь невероятный человек не вписывается в образ «фашисткой гадины», сложившийся по понятным причинам и укоренившийся не только у нас (у нас он просто цветет, как нигде). Служба человека в СС, кем бы он ни был, не может не вызывать вопросов. Далеко ходить не нужно: когда в 2006 году внезапно выяснилось, что в СС служил писатель Гюнтер Грасс, вопросы нашлись мгновенно. И хотя сам Грасс утверждал, что за время службы не сделал ни одного выстрела, говна на вентилятор наброшено было немало.
У Юнгера другая ситуация: он был на виду все это время, и несомненно, был в опасности, балансируя между двух огней. Для него это нормальное состояние. Ниже я немного расскажу про его жизнь и некоторые книги, не заостряя внимание на его философских суждениях и политической позиции — иначе пропадем, мужики.
Первая мировая война. «В стальных грозах».
Последний год я провел за чтением дневников и романов Юнгера; мне 28 лет. В этом возрасте Юнгер уже стал героем Первой мировой и написал свою первую книгу, «В стальных грозах».
Это военные мемуары, основанные на его дневниковых записях. На войну Юнгер записался добровольцем, предварительно напрягшись и досрочно сдав экзамены в университет. Солдатом он стал чуть раньше, в 18 лет сбежав из дома и вступив во Французский иностранный легион. Идея была в том, чтобы попасть в Африку, где Юнгер и оказался; в Алжире его настиг отец и вернул домой, но ненадолго.
 Разумеется, Юнгер не единственный писатель, участвовавший в мировых войнах.
Разумеется, Юнгер не единственный писатель, участвовавший в мировых войнах.
Известно понятие «потерянного поколения» — молодых людей, призванных на войну в юном возрасте, что отразилось на них соответствующим образом. Рупором «потерянного поколения» была именно литература. Хэмингуэй доблестно сражался на стороне США и в конце концов был тяжело ранен, спасая союзника. Отличился он и на Второй мировой.
Немного другая история с соотечественником Юнгера Эрих Мария Ремарком — тот после полугода службы был ранен и провел остаток войны в госпитале; в гитлеровской Германии его начали преследовать как еврея (хотя не факт, что он им был — это отдельная история), и писатель уехал в США. В тот момент как раз подрос другой немецкий писатель Генрих Белль, который прошел Вторую мировую и в 45-м благополучно сдался американцам.
Юнгер не бывал в плену, зато был ранен некоторое количество раз.
Юнгер быстро пробился из рядовых в командира. Это был редкий сплав физического и духовного; кроме воина в нем жил интеллектуал, каких поискать. Блестящая военная карьера — бэкстори его творчества, где вообще много автобиографического. Его конек так и называется: «интеллектуальные дневники». Слишком понтово, конечно, но что поделаешь, такой человек.
Дневники ценны наблюдениями, приукрашенными только в лучшем смысле этого слова: Юнгер был стилистом уровня Флобера, который, как мы помним, выверял свои тексты с особым усердием. Со временем в дневниках стало больше размышлений; «В стальных грозах» экшена больше всего. Это дань событиям, оказавшим на Юнгера огромное влияние.
Юнгер с самого начала не выказывает никакого страха перед войной и рассказывает о ее ужасах как данности, что не всегда характерно «потерянному поколению». Не из глупости: это была осознанная жажда приключений, желание нюхнуть пороху и — как он позже для себя откроет — подпустить к себе поближе смерть.
В первый же день войны пошла жара. В Шампани взвод Юнгера попал под обстрел.
Снаряд разорвался вверху у портала замка и швырнул кучу камней и осколков ко входу, как раз когда вспугнутые первыми выстрелами обитатели устремились из арки ворот. Он поразил тринадцать из них <…>
Хотя обстрел мог возобновиться каждую минуту, какое-то властное любопытство тянуло меня к месту несчастья. Недалеко от портала, куда попал снаряд, болталась дощечка, на которой рука какого-то шутника написала слова: «Гиблый уголок». Похоже, замок был уже известен как опасное место. Улица краснела лужами крови, продырявленные каски и ремни лежали вокруг. Тяжелая железная дверь портала была искромсана и изрешечена осколками, тумба была обрызгана кровью. Я чувствовал, что глаза мои как магнитом притягивает к этому зрелищу; глубокая перемена совершалась во мне.
В тот же день они выступают, но до первого сражения нужно было подождать: шла позиционная война. По ходу 1915 года Юнгер и несколько его товарищей ведут вполне пристойную солдатскую жизнь в оккупированной Франции, мирно сосуществуя и бегло изъясняясь (в силу хорошего воспитания) с местными жителями.
Оккупация по Юнгеру подразумевает полное неприятие военных преступлений против мирных жителей. Для знатоков военной истории такое поведение может быть данностью, и мы к ней еще вернемся. Но это не самое удивительное в нашем герое.
 Весной 1915-го, повидав некоторое дерьмо и свыкшись с первыми порциями расчлененки, его отряд сидит на передовой под плотным обстрелом французов. Юнгер дико угорает.
Весной 1915-го, повидав некоторое дерьмо и свыкшись с первыми порциями расчлененки, его отряд сидит на передовой под плотным обстрелом французов. Юнгер дико угорает.
Во время этих событий меня терзали странные заботы. Я завидовал старым «львам Перта» из-за их приключений в «котле ведьмы», которых меня лишило пребывание в Рекуврансе. Поэтому, когда «угольные ящики» особенно рьяно устремлялись в наш угол, я спрашивал Коля, принимавшего участие в том действе:
— Послушай, это как в Перте?
К моему огорчению он каждый раз отвечал, небрежно махая рукой:
— Ничего похожего!
Когда же обстрел усилился настолько, что наша глиняная скамья под ударами черных чудовищ заходила ходуном, я снова заорал ему в ухо:
— Теперь-то уж точно, как в Перте?
Коль был честный солдат. Он сначала поднялся, испытующе поглядел во все стороны и к моему удовлетворению прорычал:
— Теперь скоро!
Его ответ наполнил меня глупейшей радостью, предвещая мне первый, настоящий бой!
Первое ранение не заставило долго ждать.
Автоматически, подгоняемый все новыми взрывами, я бежал за моим начальником, который время от времени оборачивался, и, дико уставившись на меня, орал: «Что за штучки? Нет, что это за штучки?»
Внезапный всполох огня прокатился по корневищам, и резкий толчок в левое бедро повалил меня ниц. Я думал, это был ком земли, но теплая, обильно льющаяся кровь не оставляла сомнений в том, что я ранен.
Позднее выяснилось, что тонкий и острый осколок разорвал мне мягкие ткани, разрядив сперва свою ярость о мой бумажник. Разрез, подобный бритвенному, прежде чем повредить мускулы, расщепил грубую кожу по меньшей мере на девять лоскутов.
Первое из четырнадцати. Схема приключения на следующие несколько лет была такова: ранение, госпиталь, передовая, повторить. Если верить пациенту, в среднем любое ранение зарастало на нем за две недели; а может, и не зарастало — так или иначе, Юнгер быстро возвращался на фронт.
«Когда скучаешь лежа, ищешь всякие способы развеяться», — пишет Юнгер после того, как буквально за несколько часов словил два сквозных ранения в грудь и голову. — «Так, однажды я проводил время, подсчитывая свои ранения. Я установил, что, не считая таких мелочей, как рикошеты и царапины, на меня пришлось в целом четырнадцать попаданий, а именно: пять винтовочных выстрелов, два снарядных осколка, четыре ручных гранаты, одна шрапнельная пуля и два пулевых осколка, входные и выходные отверстия от которых оставили на мне двадцать шрамов. В этой войне, где под обстрелом были скорей пространства, чем отдельные люди, я все же удостоился того, что одиннадцать из этих выстрелов предназначались лично мне».
К своей радости Юнгер не раз встречается с врагом лицом к лицу и далеко не сразу уезжает обратно в больничку. Грамотные действия на поле боя, среди которых есть
настоящие подвиги, обеспечивают Юнгеру не только повышения по службе, но и стремительное возмужание. Уже командуя взводом, а потом ротой, он при постоянном численном преимуществе врага берет в плен 200 англичан, а годом позже выводит своих солдат из окружения. Разумеется, с очередной дыркой в груди.
Уже в «Грозах» прослеживается важная черта этого человека: что бы ни случалось, no fucks were given. Шквальный огонь, взрывы снарядов и крики раненых выстраиваются в стену звука, так, что начинает звенеть в ушах. Голод и тревожный сон в полузатопленных блиндажах. Реки крови, постоянно гибнущие товарищи. В минуты покоя, которые Юнгер выкраивает иногда только благодаря своему позитивному настрою, он делится подробными наблюдениями о природе — его еще ждет успех в энтомологии — смотрит на насекомых и птиц, нюхает розы в сотнях метров от разрыващихся снарядов, в затопленном по колено блиндаже читает Лоренса Стерна (он успокаивает).
Разумеется, он немного приукрашивал. Но ведь и четырнадцать ранений себе не нарисуешь. Как и регалии: от Железного и Рыцарского крестов до Pour le Mérite, высшей военной награды Пруссии — Юнгер стал последним героем страны, вскоре прекратившей свое существование.
Вторая мировая. Юнгер и «60 тысяч идиотов».
Французская оккупация
За 12 лет существования Веймарской республики Юнгер еще немного служит, уходит в оставку и заводит семью. Теперь он писатель и философ — один из виднейших в тот момент. Первый и последний раз коснемся политики, потому что Юнгер скоро сам с ней завяжет. Ведь тут появляется он.
 Юнгер был за национализм и диктатуру.
Юнгер был за национализм и диктатуру.
В 20-е годы он, как Гитлер, топил за правых, что на тот момент было совершенно нормально. Проблема, если коротко, была в известной реализации — ее оценили далеко не все, не говоря о засекреченной ее части; про газовые камеры и печи знали вообще немногие.
С приходом Гитлера к власти Юнгер стремительно эвакуируется с политической сцены и сливает Геббельса с его предложением вступить в НСДАП («Лучше напишу еще одну поэму, чем поддержу 60 тысяч идиотов»). Гитлер слишком уважал Юнгера как героя войны, чтобы что-то ему предъявлять; в принципе, этого запаса прочности хватило почти на всю войну.
Но Юнгер не собирался складывать оружие. Второй военный дневник «Сады и дороги» застает его в загородном доме, куда он только переехал в 1939 году, чтобы посвятить себя садоводству и земледелию. Время до мобилизации он проводит за высадкой душистого горошка и повестью «На мраморных утесах». Как и многое у Юнгера, она про него самого.
С политикой покончено, но не высказаться по поводу происходяшего было нельзя. Это не сатира, но тоже своего рода обличение, не расписанное по ролям, как «Скотный двор» Оруэлла, а гораздо более тонкое.
Действие происходит в Средневековье. Два брата (Эрнст Юнгер и его брат Фридрих Георг) решают отойти от военных дел и уходят в монастырь в Большой Лагуне, где сажают растения, наблюдают за животными, вчитываются в древние манускрипты, ведут спокойную, размеренную жизнь. В то же время в лесу Старший Лесничий устраивает живодерню, упарывается охотой (без кавычек) и делами куда более темными — по самой известной версии, под ним подразумевался Геринг. Книга кончается бойней; дописав ее, Юнгер сам отправляется на войну. Корректуру подвезут на передовую.
 Военная часть «Садов и дорог» на удивление мало отличается от той, где Юнгер пробыл в лесу и на грядках. Как принято говорить, участие Юнгера во Второй мировой сводилось к отстраненному наблюдению, хоть он был командиром роты.
Военная часть «Садов и дорог» на удивление мало отличается от той, где Юнгер пробыл в лесу и на грядках. Как принято говорить, участие Юнгера во Второй мировой сводилось к отстраненному наблюдению, хоть он был командиром роты.
Конкретно исполнение военных обязанностей на этот раз выглядело так:
«То место, из которого был ранен боец, я приказал хорошенько обстрелять, и покинул укрепление после того, как увидел, что расчет расторопно занял свои места у орудий. Предварительно сделав доклады, я часа в четыре снова вернулся в хижину»
Обычный день французской оккупации (опять он оказался во Франции) по Юнгеру:
«Вечером еще читал Бернаноса — первую книгу, опубликованную этим автором со времени его переезда в Южную Америку. Я нашел ее здесь, в доме, и перед тем как заснуть поразмышлял о положении этого ума, которое может служить поучительным примером.
<…>
Среди ночи я был разбужен взрывами авиабомб, сброшенных в ближайших окрестностях города. Я собрался было спуститься в подвал, но сапоги мои куда-то запропастились. Тогда я оставил эту затею и вскоре снова уснул.
В первой половине дня мы со Спинелли совершили познавательную прогулку по знойным садам на склоне горы. Розы, белые пионы, жасмин. В различных домах, частью поврежденных попаданиями снарядов.
<…>
Из бельевого шкафа я взял полотенце, которого мне не хватало. Вообще, что касается реквизиции, то в ней существуют совершенно точные границы, которые я постарался четко и ясно очертить перед бойцами.
Так, к примеру, солдат имеет право взять себе ложку, если потерял собственную, — при известных обстоятельствах даже серебряную, если наткнулся именно на нее, но ни в коем случае не тогда, когда рядом с ней лежит оловянная».
Все это было до Компьенского перемирия 1940 года: простой и довольно деликатный, по крайней мере со слов Юнгера, захват Франции.
Кавказ и Париж
 Дальнейшие события и последующую за ними оккупацию Германии Юнгер описывает в дневниках под названием «Излучения».
Дальнейшие события и последующую за ними оккупацию Германии Юнгер описывает в дневниках под названием «Излучения».
Первые два года он служит в Париже, где благодаря только что опубликованным дневникам его воспринимают иначе, чем любого другого немецкого офицера. По дневникам вообще трудно бывает понять, что речь идет не то что о человеке в мундире со свастоном, а вообще о военном. В Париже Юнгер еще потусит как следует на исходе войны, а пока, осенью 42-го, он едет в на Кавказ через Восточный фронт и не то что бы этому рад.
Ростов, 22 ноября:
Ходил по городу; все те же унылые картины. Так же как мои прогулки в Рио, Лас-Пальмасе и на иных побережьях напоминали слаженную мелодию, так здесь все отвращало душу. Видел несколько оборванных детей, они играли на катке и казались мне странными, как луч света в царстве мертвых.
К сожалению, я недостаточно экипирован; я и не подозревал, что такие мелочи, как карманное зеркало, нож, нитки, бечевка, являются здесь ценностью. К счастью, я все время сталкиваюсь с людьми, готовыми мне помочь. Нередко они оказываются моими читателями, и их помощь я могу приписать собственным заслугам.
Описывать все в подробностях Юнгер уже не может. Его регулярно обыскивают, некоторые записи приходится спрятать понадежнее. В дневниках свою критику происходящего он выдерживает в стиле, принятом еще «На мраморных утесах».
«Дыхание этого мира палачей столь ощутимо, что умирает всякое желание работать, писать и размышлять. Злодеяния уничтожают все, людское простанство становится нежилым, будто из-за припрятанной падали. При таком соседстве вещи теряют свою душу, вкус и аромат. Дух изнемогает на задачах, которые он ставит перед собой и которые могли бы его увлечь. Но именно вопреки этому он обязан бороться. Краски цветка, растущего на смертельной кромке, не должны поблекнуть для нашего глаза, будь это расстояние хоть в ширину ладони от бездны».
И так далее. Кроме того — множество наблюдений за природой и философских размышлений, меньше сражений. Война перестала привлекать Юнгера. Из всех его воспоминаний о Первой мировой выделяется первое появление солдат в касках. Теперь прогресс, который Юнгер одобрял совсем в других целях, обеспечивал конвейер смерти сотнями тысяч тел. И это не говоря о методах СС и концлагерях, о которых стало известно далеко не сразу и далеко не всем.
В 43-м Юнгер возвращается в Париж, где проведет большую часть войны, общаясь с французкими писателями и учеными. Какое-то время служит в отделе цензуры; как он потом рассказывал, некоторые письма он предпочитал прятать, чем пересылать дальше.
В это же время Юнгер пишет эссе «Мир», воззвание к молодежи Европы, где, если коротко, дает понять, что пора бы уже подумать о мире и согласии. Возввания к миру в стране, развязавшей войну, шли вне генеральной линии партии. Гитлер все еще относился к Юнгеру с осторожностью. В «Излучениях» его зовут Кньеболо. Чем больше друзей Юнгера в Германии гибнет под давлением СС, тем резче он о нем выражается. Гитлер появляется в дневниках в исключительных случаях, как настоящий злодей, все ближе подбирающийся к герою. В 1944 году опасные знакомства Юнгера связывают его с очередным неудавшимся покушением. Его увольняют из армии, и он возвращается в свою деревню. Только скорое поражение Германии в войне позволяет соскочить с преследования СС. Приструнить его хотели еще после публикации «На мраморных утесах».
«Этот гауляйтер из Ганновера, как его…» — расскажет 101-летний Юнгер потом, сидя в своем доме в деревушке Вильфлинген. Рядом сидит жена, она тоже не помнит имени гауляйтера. — «Ну, он и говорит Гитлеру: “Так больше нельзя, книгу нужно запретить”. Гитлер ответил, что это не обсуждается”. Слава богу, мы с ним так ни разу и не увиделись. Этого еще мне не хватало».
Самой горькой потерей на войне стала смерть старшего сына, 18-летнего Эрнстеля. Он погиб в бою, в чем, по мнению отца, так легко и быстро превзошел его самого.
Оккупация
В конце войны Юнгер уходит в отставку и отправляется домой. Высокому начальству, как уже говорилось, не до него. Союзникам предъявить ему было также нечего; работы Юнгера на всякий случай были запрещены до выяснения подробностей — но обратно разрешены уже к 1949 году. Пока же, в апреле 45-го в деревню заявляются первые оккупанты, в основном американские — и это хорошая новость. Юнгер возглавляет ополчение в своем округе, но сопротивления не оказывает.
Вместо подробностей оккупации, где хватает сочных моментов — их оставлю для прочтения вам — важно понимать:
Если я говорю в моих записях: русские, американцы, поляки, немцы, французы, — это следует понимать так же, как перечисление фигур в описании шахматной партии.
Любая из них может быть как белой, так и черной. Любая может испортить партию, но любая может сделать и решающий победный ход, а может пожертвовать собой, спасая короля.
Убийства, насилие, грабежи, воровство, великодушие, благородство, способность прийти на помощь человеку в беде — все это не связано нерушимой связью с национальной принадлежностью.
Каждая нация несет в себе все возможности, свойственные человеческому характеру. Однако нам никуда не деться от национальной принадлежности к своему народу. Несчастье, обрушившееся на родную семью, страдание брата трогают нас гораздо сильнее, и это заложено в природе вещей, равно как и то, что наша причастность к его вине больше, чем к чьей-либо еще.
Его вина — наша вина. Мы должны принять за нее ответственность и расплачиваться.
Тем не менее, о русских оккупантах отзывы в основном отрицательные — будь то личные встречи, или чужие рассказы, полные жутких подробностей.
Жизнь после войн. Кислота и «субтильная охота»
В 50-х работы Юнгера снова разрешили. Читатели осаждали почту еще пуще прежнего. В 1947 году Юнгеру пришло письмо из Швейцарии, от ученого по имени Альберт Хофманн. В 1951 году Юнгер нанес визит Хофманну с целью отведать ЛСД. Как человеку «особо восприимчивому», Хофманн отмерил Юнгеру 0,05 мг. Этого хватило, чтобы «оказаться у ворот мистического бытия, но не открыть их».
 Юнгер, ранее успевший попробовать мескалин в компании с Олдосом Хаксли, заявил, что то был тигр, а это — что-то вроде домашнего кота. Впоследствии он изменил свое мнение: Юнгер и Хофманн встречались еще несколько раз, но не ограничились ЛСД. Например, не совсем удачно прошла вписка в доме Юнгера в Вильфлингене в 1961 году, где он в компании с Хофманном и еще двумя научными сотрудниками принял по 20 мг псилоцибина. По итогам волнующей ночи Юнгер и Хофманн сошлись в том, что грибы перенесли их «не на сияющие высоты, а скорее в темнеющие глубины». Подробнее об этих экспериментах Хофманн писал в своей книге «ЛСД — мой трудный ребенок». Там же можно найти воспоминание о последнем трипе Юнгера (хотя кто его знает). Дело было 1970 году, в доме у нашего героя, за месяц до его 75-летия.
Юнгер, ранее успевший попробовать мескалин в компании с Олдосом Хаксли, заявил, что то был тигр, а это — что-то вроде домашнего кота. Впоследствии он изменил свое мнение: Юнгер и Хофманн встречались еще несколько раз, но не ограничились ЛСД. Например, не совсем удачно прошла вписка в доме Юнгера в Вильфлингене в 1961 году, где он в компании с Хофманном и еще двумя научными сотрудниками принял по 20 мг псилоцибина. По итогам волнующей ночи Юнгер и Хофманн сошлись в том, что грибы перенесли их «не на сияющие высоты, а скорее в темнеющие глубины». Подробнее об этих экспериментах Хофманн писал в своей книге «ЛСД — мой трудный ребенок». Там же можно найти воспоминание о последнем трипе Юнгера (хотя кто его знает). Дело было 1970 году, в доме у нашего героя, за месяц до его 75-летия.
Эксперимент начался утром, сразу после завтрака и длился до наступления темноты. В начале путешествия мы опять слушали концерт Моцарта для флейты и арфы, который всегда делал меня особенно счастливым, но в этот раз, как ни странно, он казался мне игрой фарфоровых статуэток. Затем интоксикация быстро завела нас в неописуемые глубины. Когда я попытался описать сложные изменения сознания Эрнсту Юнгеру, наружу вырвалось не более двух-трех слов, поскольку они звучали так нелепо, так были не в состоянии описать экспириенс; они как будто происходили из бесконечно далекого мира, который стал чужим; я бросил эти попытки и безнадежно рассмеялся. Очевидно, Эрнст Юнгер переживал то же самое, но нам не нужна была речь; беглого взгляда было достаточно для самого глубокого понимания. Тем не менее, я смог записать на бумаге какие-то обрывки предложений, вроде этого в начале: «Нашу лодку нещадно бросает». И позднее, относительно богатого переплёта книг в библиотеке: «Как будто золотой блеск проступает наружу на фоне красного золота». На улице пошел снег. Дети в масках шагали по улицам за праздничными карнавальными повозками. Глядя через окно в сад, покрытый клочьями снега, многоцветные маски появлялись над высокой стеной и врезались в память бесконечно радостным оттенком синего: «Сад, как у Брейгеля — я живу вместе с его предметами и внутри них». Позже: «Сейчас — никакой связи с повседневным миром». Ближе к концу глубокое успокаивающее прозрение выразилось в словах: «До сих пор уверен в своем пути». В этот раз ЛСД привел к счастливому путешествию.
В тот же год Юнгер дописал труд «Сближение: Наркотики и Опьянение», где рассказал о всевозможных средствах одурманивания — от табака и алкоголя до ЛСД и даже свежего воздуха. Юнгер не отрицал вреда наркотических веществ, главным образом из-за зависимости. Сам он был крайне любознателен, но во всем знал меру.
После семидесяти Юнгер посвятил себя путешествиям. Греция и Сицилия, Италия и Португалия, Япония и Китай, Исландия, Шри Ланка и Ангола. Престарелый Юнгер не сидит на месте и прекрасно себя чувствует, пишет и регулярно ходит на «субтильную охоту» — так он называл охоту на жуков, которых собирал с шести лет. За 90 с лишним лет Юнгер собрал коллекцию из более 40 тысяч видов. Несколько находок стали научными открытиями и были названы в его честь, как и соответствующая премия по энтомологии.
Глубокую старость Юнгер встретил у себя дома, в Вильфлингене, с супругой. «Я тоже чувствовал себя старым, но это проходит, — рассказывал он в своем последнем интервью. — Я думал, что сто лет — это очень много. Но когда я сижу здесь, читаю, окруженный книгами, я не чувствую этих лет». На вопрос о том, успел ли он освоить компьютер, он ответил категорично: «Нет. Встреча человеческого разума и машины неинтересна. Вещества намного лучше».
Эрнст Юнгер умер в 1998 году, ему было сто два.
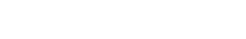








Ребята Вы когда нибудь изучали древние артефакты? или вам в этой жизни на все наплевать?
Спасибо!
конечно, срать вообще, у нас же сайт об этом буквально кричит
а вы? а вам?
Стас, я получил искреннее удовольствие от чтения перед публикацией, ну и да, захотелось пойти всего Юнгера хронологически прочесть
«Нет. Вещества намного лучше.»
Из любимых моментов в «грозах» :
В дивизии у соседей грипп свирепствовал так, что вражеский пилот сбросил листовку, в которой было сказано, что если войска сейчас же не уберутся, замену произведут англичане.
_____
Из-за этого между мной и маленьким Шульцем, устанавливавшим орудие, возник яростный спор. Мы примирились только тогда, когда Шульц обнаружил меня в кустах с бутылкой бургундского, которым я пытался поддержать себя в этой опасной авантюре.
_____
Пока мы вставали, все прекращалось, и можно было в свое удовольствие сидеть за крошечным столиком, попивая скисший от жары кофе и выкуривая утреннюю сигару. В полдень в насмешку над английской артиллерией мы загорали на брезенте перед дверью.
______
Наконец командир нашел дорогу, определив направление по наиболее заметному скоплению трупов. Один из погибших лежал на меловом откосе, раскинув руки наподобие креста, – какая фантазия могла изобрести дорожный знак, более подходящий для такого ландшафта?
Ну вот сегодня я окончательно убедился, что Вы — журнал Maxim.
Журнал «Максим» будет, когда будет безоговорочное «ты» читателю в каждом тексте и врезки несмешных шуток в материалах. К великому счастью, этого нет.
Огромное спасибо. Я хз где найти время на это все.
вот это чудесно, даже отвлекся от подготовки к экзамены ради статьи, спасибо
ОГРОМНОЕ спасибо за статью! Где только время найти на всё это :(
чуваки, вам спасибо) вот еще тот самый фильм, где на него после ста посмотреть можно — зрелище ебической силы. http://vk.com/videos331308?section=all&z=video281389865_171867873%2Falbum331308%2Fpl_331308
Жду статьи Станислава сильнее, чем нового года, спасибо вам!
Просто отлично!
Спасибо за статью, годно
у меня есть неизведанная пещерка, которая ждет чтоб ее расхитили
в носу ?
На паре фотографий герой статьи жутко на Добродеева похож. Совпадение?
Шикарная статья, прочёл на одном дыхании! Спасибо большое!
в ухе
не думаю
Собственно библиография http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3726602
Спасибо за наводку, в прошлом году читал мемуары Руделя, несмотря ни на что упёртый был дядька, теперь Юнгера гляну.
Отличная статья и манера изложения.
Спасибо, интересно. Но в начале статьи обещано рассказать про философию, чего я в самой статье не увидел. Ничего не рассказано про консервативную революцию и т.д.