Я называю их про себя «Джей и Молчаливый Бомж». Двое бездомных, которые часто ошиваются около моего дома, стоят целыми днями, прислонившись к кирпичной стене на тротуаре, и выпрашивают мелочь. Точнее, выпрашивает только один: у второго на горле огромный зоб, который мешает ему говорить. Обычно я проходил мимо и кидал монетки, но в этот раз мне вдруг захотелось познакомиться с одним из них, поболтать и записать услышанное на смартфон. Вышло гораздо интереснее, чем я ожидал: настоящее интервью с человеком, обитающим у самого дна. И ему есть, что рассказать о жизни.
«А знаешь как они наш город [Йошкар-Ола] называют? Поволжская Венеция! Ненавижу Венецию! Одни парапеты, кусты срубили, ни поспать, ни че!».
Отыскать получилось только одного из них, как раз говорящего. Он сидел на ступеньках «Пятерочки» и пересчитывал мелочь. Вместо того чтобы подходить и втираться в доверие, я сразу начал с козырей:
— Хэй, не хочешь подзаработать на еду и бухло?
— Подзаработать? Да у меня и ноги-то не ходят, и глаза одного нет, чем я тебе помогу-то?
— Ты со мной поболтаешь, а я тебе куплю поесть и выпить.
— Че-то не похож ты на журналиста!
Ухожу и возвращаюсь к нему с соком и несколькими пирогами; бродяга начинает долго и тщательно их прожевывать.
Эту часть беседы было бессмысленно записывать: он ел так упоенно, что отвлечь его было тяжело. Хотя удалось выяснить кое-какие детали биографии и поговорить о Венеции. Йошкар-Олу действительно называют «Поволжской Венецией», но всерьез это делают только чиновники и местные СМИ. С точки зрения бомжа все изменилось в худшую сторону: стало больше бетона, меньше кустов и укромных уголков, слишком много света и слишком мало перспектив.
Его зовут Алексей Скворцов, ему 42 года. Он — невероятно поломанный жизнью человек: ноги изуродованы, один глаз полностью ослеп, вся голова в уродливых шишках, одна рука почти не сгибается. Леха доедает пирог, невнятно распевает какую-то матерную частушку и добавляет: «Красная плесень!». Я начинаю аудиозапись:
Владимир Бровин: Прикольный ты мужик, Алексей! Ну, давай, расскажи, как ты бомжевать-то начал?
Алексей Скворцов: Мачеха с квартирой кинула, пока я сидел. А отца она в дурдом списала, потом в интернат в Красном Стекловаре. Там и помер. Пока я отбывал срок наказания, она меня и выписала.
В.Б.: А что за срок, что там у тебя было?
А.С.: «Нанесение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», статья 111, часть 1.
В.Б.: Это так ты глаза лишился, или другая история?
А.С.: Нет, это еще с войны. У меня и позвоночник поврежден и левая ключица, и левый глаз не видит.
В.Б.: Все сразу вышло? Или по-отдельности поломал?
А.С.: Мы… Мы заходили в Ачхой-Мартан и подорвались. В 98-м году. В сентябре 98-го.
В.Б.: Можешь про это рассказать? Где ты служил?
А.С.: В Чечне… Дагестан. Мы — лицензионная бригада, ходили по Чечне (но не воевали). В определенное время встречаем человека. Мы — пароль, он — ответ. Значит, свой. Мы его увозим в Дагестан. Два часа ждем — он свои дела делает и сопровождаем обратно. Вот и вся служба. Кто такой, с кем он встречался, зачем — я знать не знаю. Знать не хочу, что это. Меньше знаешь — дольше живешь.
В.Б.: Ну, и ты подорвался…
А.С.: Да, подорвался. Шли на головной машине, на БТР, «девяностка». Подорвались — меня с брони скинуло, а там — камни. И поломался. Пацаны меня взяли, потянули и на больничку. В итоге оказался в Бурденко. Более-менее подлечили, но в итоге меня списали.
В.Б.: Так ты не в срочке служил?
А.С.: Нет, старший прапорщик. Оканчивал «ШМич» — школу мичманов и прапорщиков в Северодвинске. А начинал службу на Новой Земле. Сначала на Белушьей губе был, а потом пролив Маточкин шар. Это — центральная часть полигона. А потом на сам ядерный полигон меня отослали. У нас гора там стояла. Рыжая губа. И, вроде, высотой ерунда, а залазить — замучаешься. У нас два беглеца там были. Один с Вологды (не помню, как звать), один — из-под Самары, фамилия Дэбреску. Решили в побег уйти. С Новой Земли. Говорят, «мы же рельсы видели». А куда там уедешь, это же остров! Ну, мы их нашли через полтора дня. Еле живые. Куда рельсы-то могли идти, в море?
На этом месте Алексей впервые засмеялся. Дальше он иногда будет хохотать, когда я попытаюсь хохмить, чтобы ободрить его. Но в целом, говорить с ним было очень тяжело.
Бродяга часто начинал рыдать, и приходилось вырубать запись и ждать, когда он успокоится. Очень яркая деталь: слезы капали только из зрячего глаза, оставляя мокрые следы на серой куртке. Слепой же глаз все время оставался сухим и неподвижным.
В.Б.: Ну вот, ты поломался, а мачеха у тебя квартиру отобрала? В каком это было году?
А.С.: В девяносто девятом или двухтысячном.
В.Б.: И ты с тех пор маешься?
А.С.: Да не, я жил у приятеля, в Великополье. Ну, когда я освободился еще.
В.Б.: Так сколько ты, получается, отсидел?
А.С.: Три и восемь. Сейчас полицаи напрягают. Чтобы я до конца срока, до потолка статьи, отмечался.
В.Б.: Так как там у тебя вышло-то со сроками?
А.С.: В 2003 я сел, в 2005 я освободился по УДО и снова сел.
В.Б.: А как, если не секрет, сел-то? Так, бытовуха?
А.С.: Первый раз — херня. Второй раз — ну, он некультурно разговаривал. Раз послал, два послал. А я тут кушать готовил…
В.Б.: А это где случилось-то?
А.С.: В доме. На Прохорова 20. Я зашел в гости. Сидел, готовил… Ну, нож ему под сердце засадил. Сам же вызвал «скорую» ему, сам рану ему забинтовал. Приехали полицаи…
В.Б.: Так он жив остался?
А.С.: Да, конечно, жив. Да и все равно его через полгода убили.
В.Б.: Что, не самый приятный человек был?
А.С.: Ха, эт точно!
В этот момент из магазина выходит сердобольная тетушка, которая начинает активно рушить интервью. В основном она кудахчет и возбужденно машет руками безуспешно призывая прохожих. Однако тетушка задает пару правильных и интересных вопросов, до которых я не додумался:
Тетка: В девятом микрорайоне, говорят, есть же «этот» для вас!
А.С.: «Дом ночного пребывания»? Так там все забито, я уже туда обращался.
Т: А куда пойдете? Больше некуда!
А.С.: Некуда. Да я в кустах сплю.
Т: Так а что ты делать собираешься дальше-то?
А.С.: В Можайский монастырь уйду. Но туда сейчас не пускают. Только весной.
В.Б.: Слушай, так ты все это время с 2012 и бомжуешь? А как удается зимовать?
А.С.: Раньше зимовал у приятеля. Но там приятель с подругой жил. Она на костылях. Потом она куда-то пропала и числа 16-го сентября меня выселили.
В.Б.: Погоди, а где ты спишь?
А.С.: На улице, в кустах. Иногда в бункере.
В.Б.: Бункере? Настоящем бункере?
А.С.: Ну, мы так контейнеры мусорные называем: «бункер». Там и обсохнуть можно, и теплее.
Т: (Причитая): Ох, а что ж родители твои, как же мать, где они все, а?
А.С.: Убили ее. Изнасиловали и повесили на Ремзаводе. Мне года четыре было, в 78-м году. Отец был милиционером и в 80-м нашел новую женщину. Мачеху. Вот она меня и выгнала, а его сдала в дурдом.
В.Б.: А что мачеха?
А.С.: Гараж мне отдала и машину. Шестерка. Так и стоит она.
На этом сердобольная тетушка пускает слезу, всхлипывает, крестит нас обоих и уходит.
«Могла бы просто подать еды какой-нибудь, вместо того, чтобы жалеть, сама вон, какую жопу наела!», — сходимся мы во мнении.
В.Б.: Ну и как выживаешь, где находишь одежду?
А.С.: Да подаянием. А с одеждой совсем плохо. Вообще нигде не попадается. Летом выбрасывают иногда зимнюю, а перед зимой-то — нет ничего, пусто.
За разговором прошли уже минут сорок. Я собираюсь, благодарю его за беседу. Предлагаю купить какого-нибудь бухла. Алексей отказывается наотрез, но соглашается на сигареты. Когда я покупаю их на кассе все той же «Пятерочки», на ступенях которой мы сидели, на меня смотрят как на отбросы, словно это я — дурно пахнущий бомж. Продавщица едва не кидает синий «Bond» мне в лицо и не говорит ни слова.

Возвращаюсь к Алексею. Перебрасываемся парой слов о том, какие грымзы стоят нынче на кассах. Бродяга ухмыляется и говорит мне с улыбкой, полной гнилых зубов:
— Сказать те честно про одежду? Я вообще без трусов хожу.
И в этот момент мы оба хохочем так, что прохожие оборачиваются и смотрят на странную пару: искореженный и жуткий бомж и бородатый парень со смартфоном, который сидит с ним рядом на ступеньках и записывает его слова.
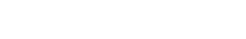








Открываем донат Лёхе на куртку?
«искореженный и жуткий»? ну ты перегибаешь, обычный бездомный, один из многих увы
история жизни, конечно, никому не пожелаешь…
Не то чтобы я был такого уж тонкого душевного уклада, но пожалел, что дочитал до этого момента. https://uploads.disquscdn.com/images/d7dfec1379eb1f88f8ca16a533824314b35003b3d1918f0d8ffa8da7bc327665.png
Осторожней, Володя, тебя так и тянет underworld и снова поспать с псинами)))
Владимир, вы прекрасны. Неожиданный материл, внезапный и цепляющий.
П.С. Бровин, вы чудесный журналист, но фотограф крайне так себе :D
Это не псина а человек, говна ты кусок
Иииии я не осуждаю! :)
Призываю сделать что-то с разделами, чтобы данная статья не потерялась в потоке других новостей, как и другие статьи Владимира.
Я думаю такие истории могут сподвигнуть сделать что-то хорошее. Например мало кто знает, но почти в каждом районе Москвы есть пункты приема одежды и вместо того чтобы засунуть ее в пакет и поставить у помойки можно чуть чуть поднапрячься и сдать ее туда.
Всегда было интересно узнать истории таких людей, просто из-за того что в Москве даже у простых людей что-то спросить страшно становится. Отличный материал получился
Да на куртку много и не надо-то, я бы поддержал немного =)
Пиздец! (как много в этом слове).
Владимир, я по-прежнему хочу и готов отправить тру вискарь за тру журналистику. Вы заслуживаете этого как никто. Напишите пожалуйста на bloodmage@nightmail.ru
Воу, полегче . Ты же не знаешь о чем речь
скрин с матрацом — это из какого фоллаута?
Жалко мужика :(
Мне помнится на первой работе один классный мужик рассказывал, что на улице наткнулся на бомжа, который оказался умнее многих людей с высшим образованием, после чего пригласил его у себя работать, одел и сделал его директором своей фирмы. Так что вот… Среди бомжей можно найти самородки! Интересное и оригинальное интервью, спасибо!
русский фаллаут, которого так все долго ждали
>В Чечне… Пакистан. Мы — лицензионная бригада, ходили по Чечне (но не
воевали). В определенное время встречаем человека. Мы — пароль, он —
ответ. Значит, свой. Мы его через Азербайджан увозим в Пакистан. Два
часа ждем — он свои дела делает и сопровождаем обратно. Вот и вся
служба. Кто такой, с кем он встречался, зачем — я знать не знаю. Знать
не хочу, что это. Меньше знаешь — дольше живешь.
Обожаю такое. Просто эталонное гонево «пра вайну». Такие иногда рассказы встречатся, хоть сразу книгу пиши. Остальное про военную службу тоже скорее всего байки.
ещё больше обожаю, когда начинают, но не договаривают. В чём гонево, откуда такое мнение?
Вот собственно, каких статей все ждут от этого сайта. Не 5 вещей, которые мы высосали из пальца, а что-то больше личное, про самих самих себя и одновременно про всех. Высерами и топами завален весь инет, а такое раз в месяц найдёшь.
Колонку Бровина в правой части, как в газетах
На Чумакову похож. Владимир доехал до Волжского?
Это должно сопровождаться такой песней https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I
Володь, ну какой Пакистан через Азербайджан??? Да ещё два часа подождали и обратно. У их даже границы общей нет и расстояние между ними в полазии. Это просто адовый гон же. И 90х бтр-ов в 98 было хорошо если несколько опытных экземпляров и заходить в Ачхой Мартан в 98 он тоже вряд ли мог. Отдельно интерсено что такое «лицензионная бригада». Это всё классический гон, такое сидельцы и армейцы могут часами выдвать.
А мне как раз на этом моменте захотелось лампового кота выложить. Что-то слишком уж закрутил, слишком все «красиво» получается.
Наверное оттуда, что фраза «Мы его через Азербайджан увозим в Пакистан. Два часа ждем — он свои дела делает и сопровождаем обратно.» очевидно бредова для того кто знает где находится Азербайджан и где Пакистан.
Отличное интервью!
а может они его в азербайджан а потом оттуда на чемнибудь в пакистан?
Армейская бригада через пять границ возит какого то нелегала на два часа в Пакистан а потом обратно. Нормально, чо.
У мутного разума Пакистан и в Африке оказаться может
а ты везде был. только по усам текло, но в рот не попало. хуже только воины гугла и клавиатуры, сидящие в теплом кресле и осуждающие. не все люди оказались там, где они есть, из-з-за того что конченые.
Только не тогда когда ты лично ходишь туда и обратно. А вот когда для тебя что Чечня, что Азербайджан с Пакистаном это какая то заграница то примерно такие истории и рождаются.
По фактам претензии есть или то , что я написал просто не нравится и хочется хоть как то меня обосрать?
а какие у тебя факты? кроме «своего» мнения, что все врут.
Факты я уже изложил. И врут не все а конкретно этот рассказчик.
приебался к слову, ахуенно, чувак 15 лет бухает и спит на улице. скорее всего то, что он несет — неправда. но сразу отметать что он там где-то был тоже неправильно.
Дружище, мутный разум иногда домой попасть не может, не то что точно описать события многолетней давности. Короче, Володе видней, в каком состоянии находился этот мужик, мы тут только воздух сотрясаем.
Не знаю что вы там сотрясате а я все нестыковки перчислил. Фактически у него ни слова правды про свою службу не прозвучало кроме разве что школы прапорщиков.
ты хочешь состыковки от пьяного бомжа? иди проспись. гений конспирологии
Если из того что я перечисли вы поняли только «пристебался к слову», то это явно не моя проблема.
Ты служивый штоле? Только служивые настолько ебануты, чтобы так доёбываться к трём строчкам текста от полуживого человека.
Я хочу хотя бы какого то соответсвия реальности. А вот с чего вас так бомбит мне непонятно.
«ваша» проблема в том, что вы считаете себя умнее бомжа, но судя по «вашим» комментариям это не так. логика недалеко ушла.
Это примерно, как вы до моих строчек доебались?)))
Нет моя проблема что до меня докопался человек который постоянно мне приписывает какую то хрень.
меня не бомбит. меня удивляет ультимативность «ваших» заявлений, что бомж врет
либо фотка отличная, либо я забрал бы себе этот матрац
Не, если б я до тебя доебался это выглядело бы так:
Да у тебя ни слова правды, что ты знаешь про Пакистан и Дагестан, обожаю, когда гонят про то чего не знают!
Короче, реприза в жанре Менструация, которая у тебя растянулась на десяточек комментов.
Так уже намного лучше. Только не отменяет ни «лицензионной бригады», ни БТР 90 которого войсках тогда просто не было ни Ачхой Мартан. 98-й это до второй Чеченской, самый хасавюрт.
А вблизи он другой (Бровин).
в москве и бомжи буржуи — еще и выбирают. в пизду их
Я выше перечислил все фактические нестыковки в рассказе. Тупо факты которые не соотвестсвуют. И вы именно так до меня и доебались.
Ох интервью с бомжами. Квинтэссенция Disgustingmen
Моя девушка просит тебе передать, что тампоны Оби лучше всего впитывают
Я свои заявления обосновал фактами, в которых я вижу не соотвествие. Вы по фактам возразили только по одному и всё остальное время предпочитая обсуждать меня. И ультимативность как раз из-за того что по факту нормально ответил только Владимир и то признал свой косяк.
шутка в том что, те кто побирается рядом — обычно «профессиональные» нищие =(
Печально, что вам с девушкой больше нечем заняться кроме как чужими менструациями;)
Мы просто любим помогать людям в перерывах между бешеными сношениями
если вы занялись реверсивной хуйней — это не моя вина. угадаете чья? или опять херни высрите?
отличные факты. вот вам тогда — Полинезия это не Кипр. и если ехать через амазонку в Данию не попадешь за полчаса.
Если это всегда помощь подобного рода, то на ваши «бешенные сношения» вам остаётся наверное аж минут по пять в день.
Нет конечно, не у всех же такая течь
То есть то, в 98 в войсках не было БТР 90 и что в 98 в Ачхой Мартане наших войск быть не могло вы не заметили и тупо будете долбится об географию?
ты что, у него факт про Пакистан а мы все врем и защищаем безрассудность мышления
Ну, если вы в моих словах видите только херню но продолжаете мне писать, то наслаждайтесь высру с удовольствием;)
Рад, что моя течь продолжает вас занимать)
У тебя ахуенные факты.
Самому стыдно, вот ИСТИНУ говорит тебе человек, а ты, сука, сомневаешься
Вам и таких хватило что бы порваться на десятки комментов. Причем ни один вы так и не опровергли.
ДО СИХ ПОР ТЕЧЁТ?!
Да, не уходите, пожалуйста, мне всё ещё нужна ваша неоценимая помощь.
а от такого человека разве может быть по-другому? жизнь потрепала не слабо. поток сознания, перемешанный с опытом жизни и тем, что было на самом деле.
а чо не все общались с бомжами/алкоголиками?
Вот тут бы взять и опровергнуть все факты что я перечислил своими. Но, нечем, поэтому только и остаётся что обсирать оппонента и облизывать соратника.
Тебе к гинекологу, мы бессильны… Береги вагину, с ней шутки плохи, когда чуть что течёт это нездорово
вы тоже написали триллиард комментов, не написав ничего по сути. дартаньян блять.
Не сомневаюсь, что такой опытный человек хорошо знает насколько плохи шутки с вагиной.
Вот тут бы взять и допустить, что в тексте просто есть неточность и нет смысла лезть и ПРАВДУ рубить, но нет, ЧСВшечку так не набьёшь
По сути я написал сразу первой парой комментов. По сути можно ответить на возражения по сути, а их не было. Дальше пошли бабахи и попытки меня обосрать с соотвествующим ответом.
только вот быть или не быть фактам. ты прям течешь от того что тебе отвечают, так что можно продолжать
Продолжайте, не возражаю.
Раньше не догадывался, теперь точно знаю!
Как здорово, когда человек, ассоциирующийся у тебя с его аватаром, где сидит бородатый мужик в красном, действительно оказывается бородатым мужиком в красном! Статья навела на мысль пообщаться с местными бомжами в аналогичном ключе, может даже записать что-то, а там, глядишь, попробовать свои силы в интернет-журналистике
Я перечислил три не просто «неточности», а просто прямые не соотвествия фактам. Но вам вместо того что бы просто принять эти факты надо непременно уверить что это факты такие а я плохой.
хватит кидать статьи из википедии
Закономерный итог.
продолжая отвечать на говно — можно задаться вопросом -кто говноед
Как хорошо, что и я вам помог узнать хоть что то новое, хотя вы и яростно отбивались.
лучше не стоит)
то есть ты пытаешься оставить последний комментарий, чтоб показать какая ту кудахля? :)
Учитывая, что говном тут называли только мои комментарии и вы продолжаете на них отвечать ответ тут однозначный в общем то))))
Я узнал, что у тебя больная вагина, за которой ты никак не следишь. Ты знаешь, мог бы обойтись.
А какая у вас цель оставления последнего комментария?
то есть ты перечисляешь факты несоответствия бомжа-алкоголика? может еще прикажешь младенцу не срать в подгузник? (да, памперс это всего лишь бренд)
итог чего? что ты беспомощен в фактах?
а вы не продолжаете? как тот самый ёжик?
Нет слов, реально круто
Судя по тому что вы продолжаете общение — нет не могли. Похоже моя вагина, как и мои месячные оказывают на вас гипнотический эффект, посильнее чем ваша девушка.
Нет, такого я приказывать не буду.
Так нам стыдно человека в беде бросать. А ты-то чего ещё тут? Сказали же, за Оби беги
)))))))))) Да, я абсолютно беспомощен перед лицом той кучи фактов которой вы меня раздавили
Продолжаю, продолжаю. И смогу ещё долго, не переживайте.
В том что у вас пригорело, что кто-то не оценил вашу гениальность в незнании биографии и географии бомжа
Ну, вы же не подумали, что я взял и побежал, я вас теперь не брошу, мне страшно остаться без руководящей роли.
Да, переоценили мы тебя…
Да, пригорело, ваша миссия выполнена?
моя миссия невыполнима.
Но, вы же меня не бросите? Я не смогу теперь без эксперта по вагинам и менструацим:(
Кстати я когда в жеке дворником работал, приобрел опыт общения с бомжами, да и коллеги были в общем тоже, ну короче это действительно «отличные парни».
Ты знаешь, мы посоветовались и решили, что если ты умрёшь от кровотечения, то одной тупой пиздой на свете станет меньше, а это в целом приемлемые потери. Так что мы ушли. Покойся с миром, увидимся в следующей жизни!
Да, переоценил я вас. И вот оно того стоило? Тупо срач, без смысла и пользы? Ни для того что бы что узнать или прояснить а чисто обосрать того, кто написал, то что не понравилось?
ну и отлично, мыслей у вас нет, но продолжаете срать в комментиках, подобающие поведение джентльмена.
а ваши факты (прям кончаю) безукоризненных. начинаю сомневаться. кто из вас 15 лет бухал на улице. без интернетов. и википедии.
может уже на ТЫ перейдете
ты ответил на свой вопрос.
Узнать бы ещё на какой свой вопрос я ответил…
Я бухал, я. Поэтому в ответ на три простых факта мне вместо опровержения накатали десятки постов флуда и оскорблений. Такие вот никчёмные факты.
Отличная статья. Отличная идея интервью. Бровин, как всегда, на высоте :)
ой, теперь пойдем в несознанку? ин блондинка стайл? типа раз не понимаешь — сам дурак?
А кто вам сказал что я джентельмен? И отвечаю я всегда симметрично — как ко мне, так и я.
Правильно, вместо того, что бы просто написать, какой вопрос имелся в виду, надо задать в ответ ещё несколько своих, да ещё приписать мне очередную мсыль которая мне в голову даже не приходила. Я реально не понял какой вопрос имеется в виду.
Окей. Ответь мне на три простых факта. Кто этот человек. Чем он занимался. И почему рассказал эту историю? (по твоей версию лживую).
ты начал симметрию, если не помнишь , обосрав всех.
может тебя не пускают из мамкиной камеры, хотяб через одну «границу». потому так бомбит?
Я понятия не имею кто это человек и чем занимался, я не ванга и не гадалка. Я заметил несколько нестыковок в его рассказе и сделал свой личный вывод что его рассказ это байка. Я его никому не навязывял и мог бы спокойно от него отказаться если бы мне объяснили или опровергли эти нестыковки. Вместо этого меня предпочли обосрать. Что касается того почему он рассказал свою историю, то я очень много общался и армейцами и сидельцами и в этой среде очень ценится история и умение её рассказать. Поэтому байки травят много и судовльствие в том числе про секретные миссии и прочее. И все всё понимают и ни у кого не лопается шаблон, когда выясняется что собеседник гнал как сивый мерин. наоборот, это считается круто выступил. И бомж, скорее всего рассказал историю, которую рассказывал много раз до этого. Вполне возможно что он теперь и сам в неё верит.
Ого а можно цитату, где я «обосрал всех»?
если я перейду на ты, это будет еще длиннее, ибо этот «вы» доебется)
Да, именно упоминания мамки как раз не хватало что бы загнать меня в угол и задавить интеллектом. Рад, что эта высота ведения спора вам наконец покорилась.
А это случайно не батя Ваномаса?
конечно, ага, напиши, вопрос (еще раз) и доебетесь за повторение. ибо ничего конструктивного предложить нет возможности у вас.
но ведь перешли
дед его
Продолжать за меня фантазировать и заниматься прикладной телепатией это безусловно намного продуктивнее.
за вас никто не фантазирует. успокойтесь уже. прикладной конструктивизм гораздо полезней.
так и сразу не поймешь кто из двоих бомж)
да как вы мог! =)
Мне кажется, но спор- срач становиться напряжение и интереснее, чем сама стать? XD
Жаль что вы его не практикуете и вместо простого ответа какой же вопрос имелся в виду вы накатали три совершенно бессмысленных комментария с рассказом про то, как вас хочу обхитрить. А конструктивное я уже предложил в самом начале — опровергните мои факты или смиритесь что у меня есть право на своё мнение.
мамка разрешила использовать этот довод
Читать эту переписку не менее интересно чем саму статью, но ребят, хули вы сретесь, вам же Бровин написал что Дагестан
Жаль.
открой свои комменты. был бы у меня доступ к ним. скинул бы.
а пишешь как ванга
тот у кого селфи палка)
мне тоже жалко, но что поделать, если не прислушиваетесь к нормальным (да, давай спроси каким). только мамки. только софткор.
Они все в этой ветке, в чем проблема найти нужный прямо здесь? Впрочем это не принципиально, могу и отрыть только я не помню, где это делается, честно говоря я до сего момента не подозревал что они у меня скрыты.
+ Они не скрыты:
https://i.gyazo.com/3f320a80ab583c911a8d50c488c1f148.png
я смиренен, что у вас есть свое неправильное мнение.
чо за статья? :D
Главное, чтобы мама гордилась!
Не, это без меня, это совсем скучно.
И из вас ванга плохая — вам показалось.
И заметь, с Володей мы всё решили парой комментов. Скучный адекватный диалог. Но, у людей так рвануло что не гаснет до сих пор.
над было сделать реверсивную реверсивность)
Согласен, парень первым полез в бутылку, но камон, вам что занятся нечем
я никогда ею и не притворялась
А так это из смирения вы за мной бегаете больше часа отвечая даже на реплики которые адресованы не вам?
словарный запас и «факты»-пакистанты иссякают?
Но, почему всё время пытаетесь рассказывать про мои возможные действия и мысли.
«я никогда ею и не https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZ6uIXq-LMmoVq-T38TKeD7KZf2_uSNy-B41eXhnEARivVQJ476pVLqQ» НЕ ПАРЕНЬ
проблема в том, что ты не понимаешь и не помнишь — нахера мне-то рыскать?
А меня закусило. Я, честно говоря от такого отвык, когда вместо разбора и спора, пусть острого, но по существу идёт просто обсирание. Ну, если хочется такого формата его есть у меня.
конечно
потому что они ошибочны? разве не понятно?
И ещё один соскок хоть с какой то конкретики. Это не я не помню, это вы мне приписали очередную хрень, которой я не говорил и на просьбу её предъявить просто соскочили.
бля как фотку запостить
Ааа, так про мамку и софтпорно это вы доступный словарный запас и наличные факты демонстрировали? Понятно, это всё объясняет)))
отличный ход — или пруф или лжец. ветку коменты видимо читать лень)
Ваши представления о моих мыслях? Конечно ошибочны, это не просто понятно, это очевидно)
Тогда ваше смирение ближайшие месяцы достигнет небывалых высот;)
https://uploads.disquscdn.com/images/950b721fedb45200a42c8092e0703fbfc35b0171f365eb08963ed39def1825f7.jpg «я никогда ею и не притворялась» НЕ ПАРЕНЬ
Это мне пишет человек требовавший открыть не закрытые комменты:D Да, лень искать того чего там нет. Ваше утверждение вы и ищите.
не хотите искать в собственной ветке комментарий, ваше дело — пустозвон.
будете без фактов доебываться до всего? окей, наверное так и будет
Главное, это вовремя понять.
я не уверен что у вас вообще есть мысли
Где я? XD
>А.С.: Гараж мне отдала и машину. Шестерка. Так и стоит она.
Вот тут я что-то не допёр. То есть, у него гараж имеется?
Нету конечно, вопрос в том на что вы всё время отвечаете и с чем спорите.
это объясняет одно, у вас не чем перебить — и перебить повторением что я написал ваш максимум
Я заметил, но заострять не стал, может оно описалось просто.
«я не уверен» я уже запутался
никогда не видел машину призраки?
Я напираю именно на слово «гараж». На кой хер ночевать на улице, если есть гараж?
был случай когда дал старому алкашу баблишка на бухло, а он пошел мороженое купил
ракушка, которую снесли? а он не помнит
Смотрите еще комменты выше. Редко увидишь такое количество комментов, у меня уже страница тормозит.
Пустозвон, пустозвон это же я сначала сослался на комментарий а потом не стал его приводить)))
на этом сайте нужен тест — кто ты — чумаков или бровин))))
Да, мне нечем перебить повторением, что вы написали мой максимум, что бы этот набор слов не значил)
ага. понять и простить.
Это вряд ли.
Мне перед Володей неудобно честно говоря. Я бы нас уже давно выпиздил отсюда)
что вряд ли? ты вообще о чем?
Ну тогда вам к Мостицкому
я не осуждаю скудоумие, если что, это нормально
Ну, зачем же доходить до крайностей!
во-первых, не я пропустил НЕ, а во-вторых если не я пропустил — перечитывать Вам, а не мне. пустозвон.
Ага, я ещё в других ветках заметил, что у вас проблемы со слежением за нитью «диалога». Про «понять и простить». Вот это вряд ли.
а чего непонятного? возможно там где должны быть мысли — их нет.
видимо я спорю со стеной. она также тверда и не обладает интеллектом.
Сегодня был эфир техно лайв с Сашей Кузьменко, я его просрал, вот сейчас слушаю в записи и паралельно тут в комментах тусуюсь, видос скоро закончится и я свалю по своим делам, но вы же оба понимаете, что пока он не придет это не закончится.
Щито? Вы написали:
«ты начал симметрию, если не помнишь , обосрав всех.»
Я попросил привести цитату где я «обсираю всех». В ответ мне было написано что угодно, начиная от просьбы открыть открытые комменты и заканчивая предложением найти эту цитату самому. Кто тут пустозвон вполне очевидно.
ты в ликворе.
Спасибо что второй час беседуете со мной. скудоумным.
Бровин ищет о чём бы ещё написать
https://uploads.disquscdn.com/images/bfad1290b2cde1095b01a67206b7e2f229981f9c7f6f9c11b2f29e6c8776ce22.jpg
так скорее http://cont.ws/uploads/pic/2015/9/2%20(235).jpg
Удачи в делах)
взаимно
Если вы спорите со стеной, то тогда кто вы?
аналогично. соболезную.
я имел ввиду ваш пол
ну да, никто бы не понял, что это шутка)
А тут опасно. Надеюсь не зацепит.
если я пустозвон. то вы ленивый пустозвон.
видимо вам не дано в отсылки и оммажи. ну не каждому. что ж делать
Ну зачем вы так о себе, я о вас такого не говорил.
Да-да, я ленивый пустозвон потому что не стал искать пост который вы мне приписали и которого нет. ОК.
Написал человек только что не понявший отсылку:D
ваша неспособность прочесть ветку вот эту говорит не моей неспособности, а о чей то другой
попытка перевести свою никчемность на меня? аплодирую сидя…
Подумал «Вот это резонанс на 200 комментов»
А тут пару школяров пытаются правдолюбивого интеллигента опрокинуть, но всё никак не выходит.
А Владимир — молодец, хоть таких историй в сети полно, но конкретно здесь хорошо разбавил. Читать было интересно.
Так мы уже установили что я скудоумный и как стена, продолжайте наблюдения.
здесь компактно и уютно) сойдет?
у меня ламинат — а у вас?
любитель биться кирпичной головой
ну так то, что Владимир молодец не оспариваемо)
Спасибо. Я никчемный, скудоумный, псутозвон и как стена. Как называется человек, который пишет мне уже который час?
Тогда впереди у вас многие месяцы наслаждения;)
Учитель.
предлагаю прочесть словарь синонимов. чтоб не повторяться)
я не очень помню букварь, или что там?
Спасибо, прочту. Что ещё посоветуете?
Спасибо, учитель!
Да такая «красота» каждый день происходит vk.com/ruzkemir_news
А, букварь и телевизор. Тогда понятно.
Ванга? Знаешь про что я думаю?
Всегда, пожалуйста.
Именно так.
Библию. И взмолиться.
Всегда, это хорошо.
некоторые как кирпич. ломаются. ломаются и сломяться ;)
Спасибо, может что то ещё?
Это безусловно.
Не все, конечно, бомжи такие, но было приятно прочитать статью (а скорее даже диалог)
Ну вот этого я ждал все эти годы! Спасибо!
некрономикон для симметрии. аве сатана!
Нет, а про что?
пожалуй всегда. но не в твоем случае.
Вы сатанист, учитель?
Но, почему, учитель?
Касательно статьи, это на сегодня самое интересное интервью, хотя бы потому, что это интервью не об играх и с неожиданным человеком в неожиданном месте. Инициатива Бровина иной раз поразила.
А на счет бомбо срача: я уже запасся попкорном.
вопрос конечно не про бомжей, а кто нить пил с только что откинувшимеся зэками?
слишком рано мой юный падаван
что есть сатанизм? добро или зло? а может все не так просто? подумай над этим.
что тебе надо начать думать.
Но, я, скудоумный, учитель, как я могу подумать? Расскажите мне о добре и зле и том, как всё непросто, умоляю!
Предложениями короткими теперь изъясняться решил ты?
А когда, будет вовремя, учитель?
Разве это плохо?
А у меня получится?
Никогда. В тебе есть червоточина.
Да.
Тогда в чем смысл вашего наставничества, учитель?
Но, почему, учитель?
Да.
нет
в вопросе смысла твоем нет
Учитель, вам плохо?
Тогда почему вы ещё со мной, учитель?
А в вашем ответе, учитель?
самых даже учеников тупых бросать нельзя на пути пол
есть
Значит, вместе навсегда, учитель?
Когда подкаст с бомжом?
конечно, садись на жезл и вместе улетим к звездам.
А вы сидели на жезле, учитель?
качественный контент))
И в чем он, учитель?
Самое то!
Старался специально ради вашего комментария.
было раз, но давно, году в 98 наверное
Во-первых, интерес к статье подняли.
Во-вторых, нахуй он нужен, после пары комментов стало ясно, что человек болен, дальше слегка потраллели и забыли.
В-третьих, мамку твою, конечно же, ебал.
Двусмысленно, когда в комментариях тоже Лимон
Неслабо от «школяра» бомбануло.
Героя интервью он не смог найти. Уточню, дабы лишние вопросы не появились, а то мало ли, что герой интервью в данном случае не Владимир.
Да ёб твою мать, да сколько можно, когда твою Ниагару осушит уже, ебанько ты полоумное? Я на свою голову решил проверить, сколько ещё у тебя жопа горела, открываю страницу: 300 комментариев! Я за это время в зал успел сходить, вернуться, пожрать, с десяток клипов посмотреть, а потом совершил эту ошибку. Кто там мне писал что мне нечего делать? Ты такой эксперт по войне, нетрудно сделать вывод, что ты контуженный на хуй, не так ли?
Вот это забыл так забыл)))
Что забыл-то, ебанько? Я серьёзно хочу узнать.
«стало ясно, что человек болен, дальше слегка потраллели и забыли» Я и говорю в этой ветке наглядно видно как забыли))) Думаю, вы настолько забыли и у вас в отличие от меня настолько ничего бомбит, что доказательство этого небомбления ещё в десяток комментов выльется.
Это да, это я погорячился, сначала в дискасе ответил, потом почуял, что что-то не так, решил проверить. Надо было только за себя писать, вы, два долбоёба, тут отлично покуражились
Как хорошо, что вы не долбоёб, а просто с долбоёбами общаетесь;)
Ну и ещё вот что отлично смотрится:
>после пары комментов стало ясно, что человек болен, дальше слегка потраллели и забыли.
>Я на свою голову решил проверить, сколько ещё у тебя жопа горела, открываю страницу: 300 комментариев!
Что замечательно, это, что «забыли» и сразу после «решил посмотреть» спустя аж четыре часа, да ещё с мамкоёбстовм в адрес совсем другого человека, за всего лишь за язвительный комментарий у вас никакого диссонанса не вызывают.
Пассажи про еблю мамки давно уже стали шуткой сами по себе, диссонанса они ни у кого вызвать не способны, как пассажи про школяров и тп. Свою ошибку про общение с долбоёбами я уже понял, и ты пойдёшь на хуй сразу же, как ответишь мне кое-что.
Что-то у меня тут реально диссонанс. Ну как, сам себе сможешь ответить?
У меня всё нормально, я отвечаю на высеры в свой адрес причем ровно той же монетой ни разу никого оскорбив первым. Но, вы можете продолжать давать мастер-класс по общению от взрослого, адекватного человека, живущего полной жизнью, не контуженного и у которого не бомбит. Именно так он и должен общаться как вы в этих комментариях. Это очень убедительно.
Совершенно неожиданный и качественный материал. Заставили вы меня посреди ночи взглянуть в экзистенциальную бездну, в шаге от которой почти все, так или иначе. Поэтому такая высокая оценка вашей работе.
Владимир, вы все совершенствуетесь, рад это видеть.
То есть, если на тебя станет лаять собака, ты встанешь раком и станешь лаять в ответ. При этом будешь думать, что так и надо. Ай лол.
Понимаешь, будь у тебя хоть немного ума, ты бы легко закидал всех аргументами и отъебал по фактике и выглядел бы действительно специалистом. Но ума у тебя меньше, чем у этого бомжа, ты это охуительно подтвердил тем, что спизданул какой-то факт и дальше весь вечер исходил на говно в комментах, вместо того чтобы его раскрыть и дополнить, а теперь выглядишь, соответственно, как полнейший долбоёб-хиккан, вообще без зачатков личной жизни и интеллекта, причём реально, это не мы тебя в говне утопили, это ты сам туда сел, и не важно первый ты начал или нет.
Я всё понял, можешь идти на хуй. Ну или обмазываться дальше, в говне сидеть всё равно один будешь.
Вы вроде человек а не собака, разве нет? Я ведь вам отвечаю а не собаке, правда?
Я привел три факта, которые никто так и не опроверг. Не знаю что надо для вас что бы «закидать фактами», вы не предъявили и такого, почти сразу перейдя на говнометание, и на этом уровне и оставшись. Надо полагать вот этот спич про «полнейший долбоёб-хиккан, вообще без зачатков личной жизни и интеллекта» это ваше представление об отъебал по фактике, ага.
Пока что один я не был и получаса, всегда найдётся желающий посидеть рядом, а то и пройтись со мной тернистой дорогой. Причем, сами догоняют и долго бегут рядом доказывая своё величие и мою ничтожность) Это всё надо полагать от адекватной самооценки и полноты жизни.
Да, Владимир, офигенный материал. Нигде такого не видел. Заставляет задуматься о том, что бомжи не просто обоссанные затрёпанные существа. Это люди, со своим прошлым и бедной, отчаянной жизнью. Жалеть каждого конечно не будешь, но посмотреть как на ЧЕЛОВЕКА стоит, просто потому что ты каждый день идёшь домой, а его дом — это кусты и «бункер».
Попробуй не читать всякую либерастическую пиздоболию и у тебя «красоты» сразу поубавится. Что бомж дал журналисту желаемое, что эти пиздоболы выдают желаемое за действительное.
«Показать все, что скрыто» никогда над чем-то из его статей не задумывался.Интересно блин!
Годно, душевно
пили историю, авось опубликуют.
мы старались, как могли. чот вот я проспался и сам заебался мотать)
в том что он есть, глупыш.
для этого есть поддаваны.
где-то заплакал один николя)))
а чо непонятного-то, успел забыть, заходишь в инет. на любимый сайт. а у тебя еще не все из пукана вышло) вспоминаешь. веселишься)
эй-эй. не надо грязи. три долбоёба! ;)
ты не привел ниодного ниспровергнутого факта. хрю -..-
а если учесть сколько этих станов, можно и заговориться бухая столько лет обложившись собаками)
ниодной нестыковки не перечислено. что бомж мог нести хуйню, что ты.
..От така хуйня, малята..
Владимир, это лучшее интервью года. Спасибо.
Ого, даже самый чокнутый ватан не смог бы назвать такое количество сайтов «либерастической пиздаболией», но ты — смог!
Владимир, а вы чем, если не секрет, до отвратительных мужиков занимались ? Писали так же ? Где ?
Интересно было почитать спасибо
Владимир вот вы прям молодец, спасибо, очень интересно.
Честно говоря, даже жалко этого беднягу. Зато куртка красная.
Ничего нового не скажу, кроме как — отличная статья. Побольше бы такого качества на дисгастингах.
Во-первых, интерес к статье подняла информация об авторстве В.Б.
Во-вторых, после пары ваших комментов стало ясно, что человек просто развлекает себя, оказавшись прав по фактике.
Ну лают две собаки, можно показать им лазерную указку, и себя потешить и им не дать заскучать. И ни у кого никаких вопросов, интеллектуальное превосходство очевидно. )
круто
Спасибо за статью, было очень интересно читать) Иногда мы просто забываем, что вокруг нас люди и у каждого своя история.
Вот за такие материалы и люблю этот ресурс. Warm-Hearted men.
как всегда, у Владимира очень интересная история!))))
Меня немножко настораживает одна вещь: каждая история бомжа в прессе — все про трагическое прошлое и предательства, а сам бомж оказывается каким-нибудь непризнанным поэтом, философом или инженером с тремя высшими. Автор еще подводит слезное резюме о том, как общество не признало гения и отвергло его.
А все бомжи, с которыми я когда-либо разговаривал — бессмысленные люди с жалким прошлым, которые ничего никогда не делали, не учились, не работали и не хотели никогда ничего. Паттерн у всех один: бухал, не работал, выгнали из дома — и похуй дым — пошел спать на теплотрассу.
И ни одной интересной истории. Где только пресса берет таких героев для статей — не понятно.
Лол, интеллектуальное превосходство = три часа очень тупо и уныло срать в комментах. Или четыре. Я смотрю, в стане долбоёбов появился новый член. Щас принесу лазерную указку.
«Срать в комментах 4 часа» — именно этим вы двое и занимались. Весело и задорно — это с переходом на личности и истории с мамашами?)
Показательно хотя бы то, что человек имея свою точку зрения не продавливал её, опускаясь до банальных оскорблений (ваш школьно-собачий уровень). А ведь он отвечал именно на высеры, а не на приведенные контр-аргументы.
Скучно-унылое «Ты чо епту самый умный штоле? Ща я те за мамку проясню наху!».
Попустись, школяр, рано ты в себя поверил…
А он точно есть, учитель?
А когда вы были поддаваном как часто вы сидели на жезле, учитель?
Тогда продолжим веселье.
У вас проблемы со зрением и человеческой речью, учитель?
От того, что вы их игнорируете они не исчезнут. Такие дела.
Лол 4 часа? Да ты что? Покажешь мне, где я 4 часа подряд сидел или сразу признаешь, что ты такое же ебанько, как твой интеллектуальный кумир?
Отсутствие не может исчезнуть. Оно отсутствует.
У меня только одна проблема. С упертостью поддавана. Он никак не может ошибки свои принять.
для вас похоже весело выставлять себя идиотом)
я не был поддаваном, учесть сидеть на жезле только ваша.
глупыш точно есть, глупыш.
Почему вы так уверены, учитель?
Как часто вы предлагаете сесть на жезл незнакомым мужчинам учитель? Может вы гей, учитель?
Да, разумеется)
Нельзя принять то чего нет;)
Примерно как комментарий где я «обсираю всех», который вы так и не предъявили;)не
ты особенный, только тебе позволено овладеть жезлом.
Потому что у вас виден талант.
да еще и интернет уплочен)
Точно виден?
То есть это у вас первый опыт?
у тебя много чего нет ;)
Но ведь есть талант, правда?
А вы сидите с ворованного?
бухал, выгнали, похуй, бессмысленные, жалкие, никогда, ничего, не, не, не. хехе мда
Привет, не ебанько, второй день срущий в комментариях, конечно совсем не так как другие) Вы уже заметили, что ваше пафосное прощание «один будешь в говне» не случилось и ваш напарник по говнометанию радостно шагает рядом?;)
хотел спросить когда же это все закончилось, но тут походу еще не все сказано.
Капец 366 комментов, никогда такого не видел
конечно, у твоей мамки уворовал
только усердие
учитель и ученик разные вещи. жезл только для поддованов
Зачем вы врёте, учитель?
Но, вы же писали про талант?
конечно. из ушей вываливается. ровной мерой.
Ну, у меня рекорд подобной переписки полгода.;) Так что…
так и не получается понять? качайте мозг. пальцы уже накачены.
Но почему вы сами не качаете мозг, учитель?
Как у вас, учитель?
А, вы тоже считаете что активный гей это не гей?
Да она нафталиновая уже черезчур, лет то уже прошло сколько. Плюс, в силу давности всего не упомнишь, а придумывать и приукрашивать не хочется.
Храни господь таких потешных школяров )
Ты для начала покажи где «понятия сходятся» и что «кумир» — «ебанько». Повторно признаваться не нужно, разрешаю.
В защиту ребят скажу, что не советую общаться и пить со студентами-медиками и знакомыми участковыми. Снимаю квартиру в подмосковье. Бывший гарнизон, тихий городок, но ребята порой такое рассказывают..Их послушать, так вообще депрессия начинается и пиздец кругом происходит.
Сначала тоже думал — «надо на трое делить их рассказики, что-то жутко совсем, Паланика и Уэлша перечитали…». А потом как-то в дверь стучит Сашка (участковый) — стоит, охуевает. Пригласил домой, сидим с чаем в руках. Спросил, что случилось.
«- Миш, у тебя соседка сверху сына ножом пырнула. Слышал что-нибудь?»
Пожимаю плечами — я работал в ночную и не слышал ничего.
«- Да не сегодня, а вообще — в последние недели. Давно этого алкоголика видел?»
Да я вообще его не видел уже давно, живем на разных этажах, да и я не особенно коммуникабелен и с соседями общаюсь только, чтобы письма или почту получить.
«- Понятно, я тогда вечером зайду с ХХХХХ, я поесть принесу.»
Вечером и рассказали в два рта:
«- У другой соседки кот по балкону перебрался к этой алкашне, она мужа попросила сходить за котом — частенько такое бывало. Звонят — а те не открывают. Но слышно, что дома кто-то есть — громко говорят, шагают. Поорали-поорали, соседей подключили, решили полицию вызывать. Пришёл с ребятами, они нам открывают и с порога — «Саш, всё скажу и покажу, только не трогайте» — и всё в таком ключе. Ох, Миш, живем в ебаной трясине — и никогда из нее не выберемся… Тело, короче. Лежал закрытым на балконе, завернутым в клеенку. По пьянке ебнула его, испугалась, что убила и решила, замотать во что-нибудь, а там уже и разобраться. Утром проснулась от мявканья кота на балконе — а тут и соседи, и полиция в дверь и всё. Не состоялось.»
Лол вот и второе ебанько слилось. Я смотрю, спиздануть а потом утираться общая черта у местных интеллектуалов. Господь тебя хранит определённо, такие скоморохи всем нужны.
Частенько вижу отдельных типов, иногда компании, что роются в мусорке, иногда днем, но с наступлением позднего вечера, вереницей, кто с сумкой на колесиках, кто на велосипедах. Выйдешь вечером выносить мусор, стоишь ждешь пока уберутся, то стремно подходить, один раз видел как бомжи между собой гасились у продуктового магаза, тупо кухонные ножи в карманах тряпья носят. Любят порой летом занимать бабкины лавочки во дворе, одна бабка гоняла их, дак они поймали бабкиного кота и съели, а шкуру ей подбросили, такие дела.
Ты ещё и тактику какую-то применяешь?) Однако… )
Скажи маме, что наказан за нарушение причинно-следственных связей, она поймёт.
Экая у вас аватарка интересная :3
Владимир, я слегка сблевывая черной желчью от безысходности поволжья наконец то сумел вам написать. Отличная статья, гениальная. К глубокому сожалению раскрываетесь вы только в формате интернет журналов, что впрочем и хорошо, рамки лишь вредят. С огромным удовольствием прочитал вашу статью. Браво!
вы совсем запутались, молодой человек. 10 отче наш перед сном.
его у вас отняли. теперь только усердие.
чтоб не перекачать. при ходьбе иначе голова будет перевешивать.
нет.
Это ваши слова. Не приписывайте их мне.
Примечательно, что эта статья поднимает ещё и такой немаловажный аспект жизни в России, как принцип «моя хата с краю». С продавщицами и прохожими показательно вышло, да и неудивительно оно. Владимиру, как обычно, спасибо за шикарный материал.
Разве не вы предложили незнакомому мужчине сесть на жезл?
Разве не вы предложили незнакомому мужчине сесть на жезл?
Но зачем вы снова врёте?
Тогда зачем советовать другим?
Получается вы врали про талант?
Как в вашей голове уживается сатанизм и Отче наш? Может вы шизофреник?
Владимир — красава. Было интересно почитать
Двоякие чувства. С одной стороны хочется помочь человеку, с другой — он вроде по мелочам не обламывается, а с крышей над головой не так легко помочь.
Орнул с моралфагов, такого контента уже море на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=y7YYNa6Tb2Y
https://www.youtube.com/watch?v=cEvnAhwr0RU
https://www.youtube.com/watch?v=UZZxmWmDoQQ
Один Хованский с Кузьмой )
https://www.youtube.com/watch?v=zJ31BoiRuk4
https://twitter.com/AveMisha/status/789058850527862784
Спроси там в следующий раз у этого человека «обитающего у самого дна» он там нашу экономику не встречал?
Спайдер Иерусалим с вами согласится :)
Сейчас бы у ноунейм московских хипстеров их мнением поинтересоватся.
Если бы вы не были типичным ЧСВ-ным школяром, способным только сраться в окошке Дискасса, тупо отвечая только на то что пришло вам лично, а, как я, отвечали прямо в ветке видя все комментарии, то вы бы увидели, что вопрос с Пакистаном был закрыт почти сразу и дальше существовал только для двух малолетних идиотов, видели только свои высеры и ответы на них. Я же Владимиру привёл ещё несколько фактов не соответствующих реальности и он с ними спокойно согласился. Специально для упоротых с проблемами зрения, повтворяю то, что написал ещё два дня назад: на 1998 год БТР 90 на котором якобы подорвался герой повествования, существовал только в опытных экземплярах, на вооружении не состоял и к герою попасть не мог даже в рамках войсковых испытаний. Дальше. 1998 год это год когда ещё во всю действовали Хасавюртовские соглашения и до начала Второй чеченской оставался почти ровно год. Никаких подрывов в сентябре 98 у Ачхой Мартана не было. Третье — никаких «лицензионных бригад» не существует. Нет такого ни официального ни жаргонного названия, это просто набор слов. Вот об этих фактах я писал, когда говорил о том, что их никто не опроверг. И я их назвал почти сразу. Но, дятел моторно срущий через дискас так и долбит про «неточность в тексте» и Пакистан. И ещё важно рассказывает про «отъебать по фактике», не будучи способен найти соседнюю подветку упившись осознанием своей охрененности. В итоге, залипнув в сраче, вы так и не произвели ничего кроме слюней и говна, ни одного факта рациональной аргументации. Зато наглядно продемонстрирован потолок доступных аргументов — написать про слив и гордо улететь в закат на реактивной тяге.
Украинскую в смысле?
эта успех
https://uploads.disquscdn.com/images/c36060822784adb515f1d3559a81628b03d4e98606bb18d730596d6a326a2df1.jpg
простите за мой лексикон, чего уж
400 комментариев…
Владимир вы не в шоке?
Вот видишь, смог таки под конец из тебя, долбоёба, выбить то, как ты должен был вести дискуссию. Пошли аргументы, какая-то фактика. Но вместо этого ты что делал? Правильно, «залипнув в сраче, так и не произвел ничего кроме слюней и говна, ни одного факта рациональной аргументации». То есть, вместо того, чтобы делиться знаниями со «школярами» ты с ними начал сраться, блять) Я сейчас пишу и реально смеюсь, потому что настолько тупорылых людей, которые сначала срутся наравне с остальными, потом пишут мне слезливые коменты в стиле «И СТОИЛО ЭТО ТОГО?1», после того как были посланы на хуй за баранье упрямство и полную унылость, а потом снова делают тоже самое, при этом опять пишут, что они не при делах, я уже очень давно не встречал. При всём при этом, походу, до тебя самого это до сих пор не дошло. Ты, на полном серьёзе, я даже не с целью оскорбить, ты полный идиот, тупее любого, кто участвовал в этом сраче. Ну либо очень унылый тролль, я из-за отсутствия изобретательности склоняюсь, что идиот.
До тебя хоть сейчас-то дошло, где ты не прав?
Всё, что я «должен был сделать» я сделал почти сразу в ответах Владимиру, потому что он один ответил адекватно а не стал бомбить. И вам лично ничего не мешало развернуть комментарии и это найти, тем более что я прямо сказал что факты привёл. Я понимаю, что вашем ЧСВшном мире я должен был утирая с лица ваши сопли и слюни, начать распинаться, но вот хрен там плавал. В ответ на говно вы ничего кроме говна не получите.
И мне глубоко начхать что вы там писали другим людям, пока вы при этом не трогали меня, отвечал я опять же только тогда, когда высерались в мой адрес, наглядно демонстрируя как про меня забыли, ага.
И вы снова доказали, какой вы последовательный человек и нисколько не идиот снова вступив со мной в диалог даже не понимая, что поле всех оскорблений и окончательных посылов нахуй любой ответ ставит вас ровно на тот же уровень со мной.
И вот от чего точно стоит «орать в голосину» так это от того что вам до сих пор требуется, что бы я «долбоёб, мудак, хиккан, тупой идиот» в общем полное ничтожество, признал перед вами свою неправоту. Вам это настолько надо, что вы снова перешагнули через все свои окончательные прощания и «будешь сидеть в говне один» и снова залезли ко мне в говно только ради того, что снова рассказать как я неправ и плох. Вот он где реальный адок))
диккенсовский аспект
Да! Хорошее интервью, жалко человека, а он такой не один. Вот так нам судьба подбрасывает разные капризы. Еще не старый человек. А куда смотрит наше правительство. Они у нас такие умные, живут в хоромах. Почему не пристраивать таких людей. Что не найдется свободных домов, полно. Они сами бы привели их в порядок, если бы к ним отнеслись с душой.У нас в переходе уже второй год стоит дедушка, все проходят мимо. Опрятный, не пьющий, я тоже с ним поговорила и каждый раз когда прохожу обязательно что то дам. У каждого своя судьба, от хорошей жизни не был бы бомжем и не стоял бы на паперти.
вот вот, узнаю котейку.
Хахахах, походу нет! То, что ты сделал это в ответах Владимиру, естесственно, не позволило тебе это копировать/вставить в ответ другим, ЧСВшечка была в опасности! И какая-то картина происшедшего у тебя перевернутая, давай-ка я тебе помогу освежить память.
Тебе лично не мешало бы развернуть комментарии и увидеть, что претензии к тебе были по сути простые, что не стоило так сильно заостряться на георафической неточности, было сильное подозрение, что или бомж уже поехал и просто не в силах вспомнить всё как надо, или что в текст закралась ошибка, как оно потом и оказалось. По поводу остального с тобой никто не спорил (ладно, по крайней мере я). В ответ ты начал реагировать ещё нелепее, так что искушение постебаться над долбоёбом было слишком велико. Получив от тебя эталонную течь, я ушёл по делам, а ты был спокойно послан.
После этого из тебя стало хлестать как из фонтана, ты сначала накатал слезливый коммент «А СТОИЛО ЛИ?!», устроил шоу умстевнно отсталых уже без меня, а потом, когда я вернулся, стал бегать за мной по другим коментам, куда тебя не звали, и ронять там кал в надежде, что тебя заметят. Тут бы стоит заметить, что интеллигентный и образованный человек, каким ты себя неистово представляешь, не станет реагировать на сторонние говнометания, потому что знает, кто прав, тем более там люди были тоже на твоей стороне. Но в такие тонкости лучше не вдавать, а то окажется, что напиши на заборе «САНЯ ХУЙ», ты станешь бегать по всем соседним подъездам в поисках того, кто такое написал и какого Саню имели ввиду.
Сначала я, охуев от того в какую клоунаду всё превратилось, реально тебе ответил то, что думаю, эмоционально, потому что не мог поверить, что человек может сначала писать такой слезливый комент, а потом так яростно прыгать на те же грабли. Осознав, что ты на самом деле именно такое орденоносное ебанько, каким кажешься, ты был отправлен на хуй, с которого потом погавкивал снова, но я уже тебя не замечал, как раз потому что пожар в твоём анусе разгорался ещё сильнее из-за моего молчания, ты прав.
Вот и были мы с тобой, как две параллельных прямых, моя в небе, твоя в говне, и никак не пересекались, но потом ты поднял из говна голову и выдал человеческую речь. Я на эту человеческую речь тебе и ответил, подумав, что вот, человек идёт на сближение, вроде взял курс на новый уровень, ближе к моему. Только что-то смотрю, взял по чистой случайности, видимо навигация в говне из-за малой видимости сильно затруднена и твои ориентиры перевернулись, но ты эту свою оплошность старательно исправил, нырнув в говнище с открытым ртом с ориентиром на дно. К твоему уровню мне не донырнуть.
Вот собсна история нашей беседы, как вижу её я. Из говна, естесственно, вид другой, но ему вряд ли можно доверять. Ничего от тебя не требуется, мне просто интересно, способен ли такой упоротый долбоёб хотя бы чуть-чуть включить мозги и подумать, что к чему. Интерес академический, как учёный следят за бабуинам, так я слежу за тобой. Судя по тому, что я снова от тебя слышу лишь смрадное бульканье, это ты там как раз «орёшь в голосину», уносясь глубоко в коричневую пучину. Надежда, короче, крайне мала. Скоро опять перейду в режим наблюдения.
Отличныйпареньпочтиубийца
а разве мы тут не за этим?)
а кто это? чтоб было не поебать на то чо ему там не нравится.
я б даже сказал hurted)
смотри только, чтоб она в ответ не посмотрела)
Будем надеяться. Говорит с одеждой тяжело. Может ему что в секондхендах подобрать необходимое? За копейки же можно, если что.
я одно время в винном магазине работал. заходил к нам однорукий бомжара, и от него все продавщицы убегали.
ну у нас же пиздатый винный бутик типа, с бухлом за три сотки.
джентльмен в вонючих портках заходил, значит, в магаз. Кидал на кассу пятьсот рублей и просил «чего нибудь». Обычно я собирал ему чуток бухла, запить и закусить. дело до кризиса было еще, так что ему этой пятихатки хватало на стандартный набор.
помню это чувство когда на после общения с бродягой на тебя самого смотрят как на бродягу.
че у них в голове, у этих приличных людей?
А я за семь лет работы криминалистом так и не смог примирить в себе брезгливость ко всяким маргиналам со `сложной судьбой` и эмпатию к ним, как к людям.
Иногда смотришь — мразь мразью, но зачастую каждый из этапов трансформации в то, что человек из себя представляет, стократно обоснован обстоятельствами.
Часто при попытках навязать свою оценку человеку, вспоминаю «Постороннего» Камю.
Еще, я часто думаю, что ведь таким людям как этот Сковрцов, блин, всего-то навсего нужны отапливаемые шесть метров, паек на 200 рублей в день и комп с инетом, чтобы их жизнь стала в сто раз лучше. Современное общество немножко никчемное, если не способно предоставить заблудившемуся человеку такой минимальный суппорт.
Лучше б одежды ему купил и дал телефон соц службы какой…бухла купить предложил блин.
Ну тогда молодец.
Иногда, ага.
В кустах он спал… Вот пиздит как срет. В подъездах они спят, прям там же жрут, ссут, гадят и блюют (последнее редко). И менты про это знают, только не вышвыривают их оттуда даже по обращениям, т.к. они будут храпеть в кустах, замерзнут и сдохнут, а мусорам — проблема. И таких историй душещипательных я могу придумать пучок за полчаса, жертва социума, мать его. Давайте все вместе пожалеем и умилимся.
>То есть то, что ты сделал это в ответах Владимиру, не позволило тебе это копировать/вставить в ответ другим, ЧСВшечка же была в опасности!
Мне не позволило начавшееся говнометание, ибо на говно надо отвечать только так же и никак иначе. Я написал, что привёл три факта. Вместо того, что бы спросить о каких фактах речь, что сделал бы любой адекватный человек, потому что один Пакистан на три факта никак не тянет, мне заявили что у меня течь. При том, что я только что эти факты привёл Владимиру. Мне и в голову не могло прийти, что человек претендующий на активное участие в споре, ничего кроме своей ветки не читает и не будет читать ещё два дня. Но, течь у меня он диагностировал, ага. При этом оказывается вообще не понимая о чем ему пишут.
>Тебе бы самому не мешало развернуть комментарии и увидеть, что пожелания к тебе были по сути простые, что не стоило так сильно заостряться на географической неточности от побитого жизнью бомжа, было сильное подозрение, что или он уже поехал и просто не в силах вспомнить всё как надо, или что в текст закралась ошибка, как оно потом и оказалось.
По географии вопрос был закрыт почти сразу я по нему уже давно не возражал, и мои слова уже были про остальные факты, но когда тупо срёшься в окошке дискасса и видишь только ответы себе, то так и долбишь про Пакистан даже в других ветках спустя несколько суток. Но, при это претендуешь на раскрытие истинной картины происходящего другим людям. Нет, это не ЧСВ, конечно.
>потом, когда я вернулся, стал бегать за мной по другим коментам, куда тебя не звали, и ронять там кал в надежде, что тебя заметят.
Это просто маленький бриллиант нашего «диалога»))) А вас самого кто то звал отвечать на тот комментарий Это Серёги? Вы точно так же прибежали к нему и кинули в него говном, заодно помянув и меня. Не обосри вы меня зачем то в очередной раз я ваше полыхание конечно не стал бы вмешиваться, как не трогал десяток ваших комментариев в других темах и ветках. Но, разумеется, когда у вас пригорело того его коммента, то это нормально, а когда я ткнул в вас в ваше полыхание это конечно ужас-ужас.
>Тут бы стоит заметить, что интеллигентный и образованный человек, каким ты себя неистово представляешь, не станет реагировать на сторонние говнометания, потому что знает, кто прав, тем более там люди были на твоей стороне.
Во-первых, я себя никак не отношу к интеллигентным людям, разве что к минимально образованным. Во-вторых вам то откуда знать, как они станут реагировать, раз вы ни к тем, ни к другим никак не относитесь, если конечно не считать всё, что вы тут выдали в мой адрес признаком интеллекта.
>Но в такие тонкости лучше не вдаваться, а то окажется, что напиши на заборе «САНЯ ХУЙ», ты станешь бегать по всем соседним подъездам и спрашивать, не тебя ли имели ввиду.
Слабенькое передёргивание. Примерно, как ваше сравнение самого себя с лающей собакой. Аналогии это явно не ваше. В данном случае все отлично знали, что имели в виду именно меня. И, да, если я буду знать что написано обо мне я писавшего найду, благо вариантов тел способных на подобное будет один-два. И больше он такого не напишет.
>Эмоционально, потому что не мог поверить, что человек может сначала написать слезливый комент о бренности спора, а потом так яростно прыгать на те же грабли.
Это, конечно, шок, когда решил обосрать человека в другой ветке а он от там взял и ответил. Ведь, раз он написал, что считал предыдущий срач бесполезным и срачем ради срача, он же всегда должен утираться, кто бы про него что не писал в других местах. Какой подлый удар в спину! Всё-таки зря убрали логику из школьной программы, хотя, не факт что в данном случае это помогло бы.
>Два больших абазаца (!) практически одних оскорблений и рассказов о собственном величии.
Ну, это уже стереотипно.
>Скоро опять перейду в режим наблюдения.
Признайте уже себе, что свой пукан вы не контролируете и такого обещать не можете. И сколько вы пафосно не прощались, любой «сидящий в говне, упоротый долбоёб, бенаько, хиккан и ещё два абзаца рассказывающих, какой он никто» может в любой момент вас развести на огромную простыню пояснений, оправданий и рассказов о том, что вы так хороши. Так что переходите, переходите, мы то с вами знаем, что всё это пустые слова и достаточно вас ткнуть несколькими словами в больное и извержение снова начнётся.
>…Интерес академический, как учёные следят за бабуинам, так я слежу за тобой…P.S. Блядь, вспоминаю и со смеху давлюсь) Никогда так ответ не было весело писать.
Ну, куда уж без без этого. Молодому очень трудно признаться, что у него что то бомбануло или его задело. Он непременно напишет, как он веселится, развлекается, наблюдает и вообще ему пофиг. Почитайте «Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям» Чапека он все ваши тонкие победные ходы расписал ещё почти век назад. Вы очень прозрачный и очевидный.
Блядь, снова вместо прямого ответа обмазывание говном и плач) Против долбоёба нет приёма, перехожу к наблюдению, смотри и учись, Саня! Иди на хуй, жертва ты инцеста, теперь точно навсегда)
И, снова 100% стереотипная ожидаемая реакция:)
Ужас какой, некто Flava Flav послал меня «нахуй». Окончательно! Бесповоротно! Третий раз окончательно и бесповоротно! Теперь уже совсем окончательно и совсем бесповоротно! Он мужик, он кремень, он сможет!
>теперь точно навсегда)
Ну, мы же точно знаем, что это не так и вы ещё порадуете своими сочными бабахами. Так что до встречи;)
Должен ведь получать пособие по инвалидности, а военкомат вполне мог бы его поместить в пансионат. Наверное, сам не хочет, и его можно понять. На мой характер—нашла бы в заброшенной деревне дом и..
И что толку от заброшенного дома? Там надо либо на полностью домашнем хозяйстве впахивать, как мало кто сможет, либо вообще жить не на что, подаяния там никто не даст.
Оп-па, родной город мой засветился)
кажется, это вообще топовый материал, из тех что выходили на этом сайте.
да, помнится как-то захожу в свой падик лютейшей зимой несколько лет назад, а там бомж на лестничной площадке моей храпит. мне даже перешагнуть через него пришлось, чтобы в кваритру попасть. ну и, соответсвенно, потому что был дикий холод, я сердобольно, да и никто другой, видимо, не стали его выгонять. а на следующий день он, сука, насрал прямо в подъезде очень мощную кучу.
Я бы сказал скорее: православного беспредела.)
Все таки зря блогеров приравнивают к СМИ. Они даже факты перед публикацией проверить не утруждаются порой, не то что интересную историю выдать. Бодрый сайт, но подобные материалы портят впечатление: после такого точно приуноешь и отупеешь.
Спасибо за материал! Было очень интересно, но грустно читать. Кто-то говорит, что странно, когда каждый бомж в прессе — с интересной историей. Но у каждого человека есть своя история и каждая со своими деталями, главное — услышать что тебе говорят и как это говорят. Бывает, врут, но те, кто говорит правду, обычно и ведут себя по-другому, и разговор строят по-другому.
Я думаю, что ты простой хуесос, который везде ищет обман. Желаю сто хуев тебе в рот.