Те, кто наслышаны о Венедикте Ерофееве (или, не дай Бог, проходили) но не читали, знают, что он написал книгу о том, как алкаш едет в электричке и похмеляется, и вся российская интеллигенция со слезами на глазах под это ментально мастурбирует. Глупое, порочное мнение! Москва-Петушки — это «Страх и Отвращение в Лас-Вегасе», только по-русски. Точнее, по-советски. И даже слегка глубже, но о том же самом.
Фильм «Страх и Ненависть в Лас-Вегасе» прославил книгу, на которой был основан, но оказал ей медвежью услугу. В народе сложилось устойчивое мнение, что кино рассказывает про наркотики, а хорошие актеры Депп и Дель Торо согласились играть в нем фриков и даже местами выродков. Оттого те, кто хотели найти в книге что-то похожее, бывали разочарованы. Выяснялось, что Хантер Томпсон написал почти эзотерическую историю о том, как две потерянные души ищут убийцу своего друга и попутно Великую Американскую Мечту. Утопию.

Читать русскому человеку такое тяжело и неспокойно, потому что в Лас-Вегасе он неизменно узнает свое Перово, только более порочное и прожаренное Гневом Господним
«Москва-Петушки» — то же, но с точностью до наоборот. Любой, даже негр преклонных годов, узнает в книге свою Sweet Home Alabama и удивится, тому, как она просочилась в подмосковную электричку 69-го года. Да и история здесь о том же, о чем у Хантера Томпсона: поиски Эдема в каком-то определенном месте. Кажется, что именно здесь остались последние крохи Золотого века и нужно просто отыскать их. Искать, разумеется, придется под воздействием веществ — мескалина у Томпсона и бухла у Ерофеева.
 Альтер-эго Венедикта Ерофеева, 30-летний Веничка Ерофеев, просыпается с ужасающего похмелья в подъезде. Существовал ли он до этого — неизвестно. Однако в его память заложена главная идея: ему необходимо добраться до станции Петушки в Подмосковье. Там его ждет женщина, которая соединяет в себе архетипы белоглазой гурии, жопастой селянки, Афродиты, Царицы Савской и девственной рыжеволосой Фрейи.
Альтер-эго Венедикта Ерофеева, 30-летний Веничка Ерофеев, просыпается с ужасающего похмелья в подъезде. Существовал ли он до этого — неизвестно. Однако в его память заложена главная идея: ему необходимо добраться до станции Петушки в Подмосковье. Там его ждет женщина, которая соединяет в себе архетипы белоглазой гурии, жопастой селянки, Афродиты, Царицы Савской и девственной рыжеволосой Фрейи.
«Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»
Кроме того, там же, в лесах за Петушками, стоит некий потусторонний дом, практически линчевский Черный Вигвам, в котором воспитывается таинственный младенец, сын Венички, знающий букву Ю. Последнее, кажется, отсылает нас к иудейскому алфавиту и таким глубинам мифологии, что разобраться в них решительно невозможно.
Веничка погружает свою измученную похмельем оболочку в электричку Москва-Петушки и начинает путешествие к Утопии
Как и томпсоновские герои, Ерофеев отчитывается перед читателем о содержимом своего чемодана: две бутылки кубанской, две четвертинки российской и розовое крепкое. Все вместе — девять рублей восемьдесят девять копеек.
«Объяснить вам, что значит «поцелуй»? А «поцелуй» значит: смешанное в любой пропорции пополам-напополам любое красное вино с любой водкой. Допустим: сухое виноградное вино плюс «перцовка» или «кубанская» — это «первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном — это «поцелуй, насильно данный», или проще, «поцелуй без любви», или еще проще, «Инесса Арманд».

Каждая глава книги — определенная станция и определенная, неизменно психоделическая, ситуация. А все путешествие Ерофеева — это Борхес, который ослеп не от болезни, но из-за отравления техническим спиртом. Герой общается с людьми, которые воплощают какие-то идеи и архетипы. Он узнает в них массу классических персонажей, вроде царя Митридата, Лоэнгрина, феи Морганы из легенд о короле Артуре, что выдает в нем человека эрудированного, хоть и перебирающего с дешевыми напитками.
Попутно все бухло выпивается в компании странных, но полных невероятных историй попутчиков, а реальность становится все более зыбкой. Люди заменяются галлюцинациями, и становится понятно, что поездка в Петушки — это не путь в Утопию и Эдем, а лишь ловушка, в которой героя поджидают совершенно метафизические персонажи.
Но главное, чем занимает книга — это не библейские отсылки, а стиль. На каждой странице найдется какая-нибудь фраза, которую непременно хочется запомнить:
«Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе?»
«Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорастом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой».
«А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «какой это шанкр — твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «мягкий, конечно»; а покажи ему мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет».
Ерофеев, как и положено постмодернисту (хотя он, справедливости ради, предвосхитил метамодернизм), смешивает низкое и высокое, стебется над всей культурой, рассыпая десятки отсылок к Библии и античной мифологии. Его язык — это смешение советской лексики, жаргонизмов, мата, высокого стиля и библейских вставок. Иными словами, если вы не понимали, почему преподаватель литературы из вашего универа рассказывала о каком-то маргинальном алкаше Ерофеева с придыханием и поволокой на глазах, то вот ответ:
«Москва-Петушки» — это филологическое порно
Немного грязное (но только потому что без стыда не бывает настоящего возбуждения) и тщательно срежиссированное порно, которое гениально косит под хоумвидео.

Из Томпсона выросла половина американской постмодернистской контркультуры (те же Паланик и Ди Би Си Пьер), из Ерофеева — вся подчистую российская (те же Пелевин, митьки, Михаил Успенский, фрики, вроде Белоброва-Попова и даже подкаст «Шизополис»). Читается, как и в случае с Хантером, все настолько свежо, что только в редкие моменты, когда спотыкаешься об артефакты, вроде «людей доброй воли», вспоминаешь: «А, да, это же 69-й».
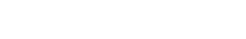

Великая и единственная.
а какого убийцу какого друга ищут «две потерянные души» у Томпсона?
https://www.youtube.com/watch?v=Htry1NnwEk4
если речь о Саласаре, то это очень смелое решение — описать одной такой строчкой суть романа
Это Загудаев на последней фотке?
Я уже собрался писать рассказ про культурного слесаря, который цитирует античную историю, литературу, философию и смешивает все это с матами и на тебе, опередили.
Загудаев совсем себя запустил https://uploads.disquscdn.com/images/59b8293c39d1ea16af81d19f1dcff9db73bb4441590c527b4efd8188a11e8fb8.jpg
Одиссея!
гонял на этой сабаке только до Электроуглей, ебать там весело, особенно в пятницу вечером
=О Совершенно случайным образом, именно сегодня с утреца на работе, невзначай, про себя, размышлял об этих же произведениях! Как вообще.. Отвратительные, вы лучшие, как всегда.
Вчера др Ерофеева был, информационная волна достигла вашей головы.
с этого комментария и следует читать дальше
приседать приседай, но зачем в Ильича из нагана стрелять?
поддерживаю! у меня именно с советами disgustingmen вернулась тяга к чтению
Помню много лет назад, когда моя бабушка ещё была жива говорила мне про эту книгу.
1. Афродиту знаю, Афродиду не знаю.
2. После 10 минут аудио книги не смог дальше слушать. Слишком деструктивно, а до юмора надо копать.
3. Был бы фильм, может бы переварил.
ай синк эхксбокс ис а фантастик консол
Слабое исполнение актёром. Не зацепило.
Читал «Москва-Петушки» дважды. С разницей в пару лет.
После первого прочтения ржал как конь, радовался, что какая чудесная комедия.
После второго прочтения страдал от осознания того, какая же это глубочайшая трагедия человеческой души.
«Talitha cumi — ляг и умри»
А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер…
книжка отличная!раньше жил в перово потом перебрался в железнодорожный,периодически туда-сюда гоняю на электроне москва-петушки и каждый раз вспоминаю Ерофеева)))