24 октября Венедикт Ерофеев отпраздновал бы 80. Когда я впервые прочитал «Москву-Петушки», мне было 15, и я ржал над тем, как абсурдна была жизнь в Союзе. Спустя 10 лет я прочитал ее еще раз и уже всплакнул — по той же самой причине. Кому из советских людей не знакома ситуация с пьяным человеком, потерявшимся в электричке? С первого же взгляда каждый узнавал в герое или персонажах самого себя. И это было нормально.

В 1955 году Ерофеев, сирота из детского дома на Кольском полуострове, приезжает поступать на филфак МГУ со следующими характеристиками: «знания по русскому языку и литературе отличаются прочностью. Ответы лаконичны, четки и хорошо построены. По русской грамматике знания не уступают литературным». Школу он окончил с золотой медалью, поэтому проблем с поступлением не предвиделось.
Но что-то пошло не так. «Поступив в МГУ, в Москве, бредя по какой-то улице, он увидел в витрине водку. Зашел, купил четвертинку и пачку «Беломора». Выпил, закурил — и больше, как он говорил, этого не кончал», — рассказывает Ольга Седакова, поэт и давний друг Венедикта Васильевича, упомянутая в поэме.
«Во-первых, я стал читать Лейбница, — рассказывал сам Ерофеев спустя годы в интервью польскому документалисту, — А во-вторых, стал выпивать. Так что ничего страшного». «А что общего у алкоголя и Лейбница?», — не догонял поляк. Ерофеев смеялся: «До чего же глупый человек….».
А тогда, в 50-х, чумовая смесь Лейбница и водки быстро сделала свое дело. Проблемы начались на занятиях по военной подготовке. В ответ на фразу майора «самое главное в человеке — это выправка» Ерофеев заметил, что эти слова принадлежат Герингу, и больше на этих занятиях не появлялся. После отчисления Ерофеев работал грузчиком, бурильщиком, надзирателем в вытрезвителе, а еще — на кабельных работах, где и написал «Москва — Петушки».
Мы будем гибнуть откровенно
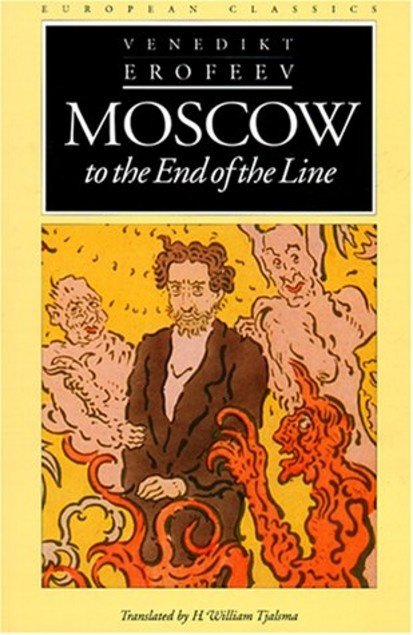
Советский режим обратил на Ерофеева внимание чуть позже, когда он уже учился во Владимирском педе (оттуда, как и из еще двух вузов, его отчислили). Там он держал в тумбочке Библию и устраивал религиозные диспуты — и, как и многие, выбрал пьянство как форму социального протеста. Казалось бы, этим никого не удивишь, но удивительными были обстоятельства и эстетика.
Для вступления в круг общения Венедикта Васильевича, рассказывает Седакова, «каждому новичку нужно было пройти экзамен. В моем случае это было требование прочитать Горация на латыни и узнать дирижера, который на пластинке дирижировал симфонией Малера. Не то что я так уж разбиралась в дирижерах и знала всего Малера — просто точно такая пластинка была у меня. Так что я узнала, и меня приняли». Девизом этого кружка было что-то вроде строк из Пастернака: «Мы будем гибнуть откровенно».
Чужих в той тусовке вычисляли просто. Как говорил Игорь Авдиев (он же Черноусый из вагона электрички в «МП»), пытавшихся внедриться в их компанию стукачей они вычисляли по тому, что те не умели смеяться в нужных местах «и тем себя разоблачали и больше к нам не ходили». При этом стучать-то было особо не на что. Когда однажды органы пытались выведать что-то о Ерофееве у его ближайшего друга, литературоведа Владимира Муравьева, тот на голубом глазу отвечал, что тот «как всегда — пьет и пьет целыми днями».
Тот же Муравьев рассказывал, как однажды Венедикт из окна автобуса наблюдал за приехавшими его проведать кагэбэшниками, толкавшими заглохшую «Волгу», и множество других историй, вымышленных или реально имевших место — что-то вроде главы «Серп и Молот — Карачарово».
Я — легенда
Поэма «Москва — Петушки», разумеется, написана из «башни из слоновой кости», точнее, из водки, которую Ерофеев, тонкий эстет, знаток латыни и римских авторов, способный наизусть цитировать Библию, выстроил для себя в качестве противовеса совку. Там звучала классическая музыка, спорили о религиозных догматах и постоянно ходили во вполне земной советский магазин.
И несмотря на это положение, Ерофеев все же горевал о том, что трагизма в его тексте «не обнаружили», а его самого записали в шутники. Ведь когда слава все-таки грянула — с публикациями за рубежом, со всесоюзным ажиотажем — она оказалась не такой, как он ожидал. Виктор Куллэ вспоминал:
«Веничка был уже звездой, вокруг него все вились. Он уже от людей, как от надоедливых мух отмахивался, просто очевидно было, что он устал, а еще многим казалось, что, говоря с ним, нужно обязательно громко материться и обязательно предлагать выпить. …Был литинститутский вечер Ерофеева, и Игорь Меламед торжественно шел по проходу со стаканом… А Веня на него с такой ненавистью смотрел… Как я понимаю, сам по себе акт выпивания для Венечки был делом глубоко интимным, примерно, как пописать сходить. Со сцены же странно было бы писать, да? Это уже было бы какое-то нарушение порядка интимности».

То, что Ерофеев сделал своим щитом и символом, он не собирался разделять с поклонниками. Вот с «народом», к которому он так часто обращается в поэме, с кабельщиками, которых смешат фамилии Абба Эбан и Моше Даян, с ними — да. А с этими… Как пишет Павел Матвеев: «Для публики Веничка вообще ничего не мог ни сказать, ни тем более написать в простоте — ему непременно надобно было как-то выпендриться. Другой приятель Ерофеева, Анатолий Иванов, рассказывал, что однажды Ерофееву надо было ответить на вопросы одного журнала. Дело шло тяжело; «Я так просто не могу — мне ведь надо с ********* (выкидонами)», — сетовал Ерофеев на свою излюбленную манеру.
Именно в такой манере были придуманы мифы о главе «Серп и Молот — Карачарово», из которой, якобы по соображениям самоцензуры, были выкинуты все матерные выражения, ее и составлявшие. Тонкий постмодернистский прикол. А ведь главу искали, думали, что она была на самом деле. Точно так же Ерофееву приписывали роман «Дмитрий Шостакович». Этот миф Ерофеев охотно поддерживал, и даже знал о филологических экспедициях по Горьковскому направлению, безуспешно искавших текст, которого никогда не было.
К концу жизни у Ерофеева диагностировали рак горла; от лечения он отказывался — там было много лишних телодвижений и напрягов, он этого не любил, предпочитая использовать специальный итальянский прибор. И звучал весьма специфично:
Возможно, так же специфично сейчас звучат его лучшие произведения. Но как и в эту странную, дребезжащую модуляцию голоса, в них хочется вслушиваться.
5 лет назад на 75-летие Ерофеева его маршрутом проехала съемочная группа «РИА-Новостей». В 2000, к 10-летию со дня его смерти, на Курском вокзале и на перроне в Петушках установили двойную скульптуру: в Петушках стояла лирическая героиня поэмы, «с косой до попы», а на Курском — Веничка. Вскоре скульптуры убрали. С 2007 года они стоят в Москве на Площади Борьбы, на старой Божедомке, где родился Достоевский и где издревле сваливали в канаву московских самоубийц.
Но в целом про Ерофеева вспоминают все реже, даже в литературной тусовке. В этом году самое крупное событие — выход биографии «Венедикт Ерофеев. Посторонний». Ни крупных чтений, ни чествований, ни телепередач.
Возможно, Ерофеев просто забывается вместе с советской эпохой и эстетикой, где каждый человек знал, что можно купить за 3.62, а что — за 4.12.

«Тот факт, что Венедикт Васильевич станет «уходящей натурой», был ясен уже в начале нулевых, — рассказал мне исследователь творчества писателя Евгений Лесин, — по сути, отмечали ведь только его 60-летие. В 1998 году. Вот тогда был размах. Тогда все еще помнили Советский Союз, и тогда за оскорбление чувств «верующих» не сажали. А что такое Ерофеев — один сплошной Советский Союз и одно сплошное оскорбление чувств «верующих». Сплошные нетолерантность и неполиткорректность. То есть с одной стороны, советские реалии ушли, а с другой — скоро Ерофеева вообще запретят. За экстремизм в особо циничной форме. Впрочем, все ли мы понимаем, над чем издевался Аристофан? Кого и что цитировал, передразнивал? А ведь до сих пор — смешно. Так и с Ерофеевым: он классик, и пусть многое уже навсегда непонятно, но и смешное, и грустное — останутся».
В тексте использованы фрагменты документального фильма Павла Павликовского From Moscow to Petushki. Посмотрите, он хороший!
Тем, кто понятия не имеет о том, что такое «Москва — Петушки», предлагаем для начала прочитать нашу старую статью:
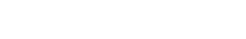

Упёрлись опять в «Москву-Петушки»… А «Вальпургиева ночь»? А «Моя маленькая лениниана»? А уж его мелкие наброски из записных книжек — и смех, и грех…
Талант, что уж там.
Прочитал недавно как раз впервые сабж, что-то вообще никаких эмоций оно не вызвало, дочитал только из принципа. Хреновый из меня литературный эстет.
» я ржал над тем, как абсурдна была жизнь в Союзе» и почти тут же «В 1955 году Ерофеев, сирота из детского дома на Кольском полуострове, приезжает поступать на филфак МГУ». Лаконично вышло про абсурд постсоветской жизни.
Ночь — офигительная вообще
и есть аудиозапись, где сам Ерофеев читает «Москву-Петушки», и вот при всей моей нелюбви к аудиокнигам, это я прослушал с огромным удовольствием. редкий случай, когда автор читает отменно, вариант Шнура вот не зашел после ерофеевского
попробуй либо после страшного запоя, либо после сорока, еще разок
Без первого надеюсь обойтись, а вот про второй вариант тоже думал. :) Но теперь и Томпсона чот боязно читать, а ну как покажется тоже странной стремной хренотой.
Москва (тире) петушки
Хех, метко под…… (подметил)