В 1970 году Юз Алешковский написал историю любви карманника и молодой исследовательницы-биолога, которые вместе работают над первыми опытами экстракорпорального оплодотворения в эпоху Сталина. А еще эта небольшая повесть — настоящий учебник истории СССР послевоенного времени.

Виртуозная сатира на советский строй, повесть была запрещена — в первые десять лет она расходилась только в рукописных копиях, даже печатать было слишком опасно. Текст повести — прежде всего осуждение «лысенковщины», нашумевшего в свое время разгрома сталинскими чиновниками зарождавшейся советской генетики.
По сюжету, вору-карманнику (щипачу, если быть верным терминологии) удается устроиться в секретный биологический институт, где ведутся опыты по экстракорпоральному оплодотворению и изучение процесса мужского оргазма. Задача Николая Николаевича, главного героя повести — производство семенного материала и достижение оргазма. Непыльная работа! Так подумал и наш герой. И тут одновременно на него обрушились любовь, вся мощь советской науки и нешуточный каток репрессий…

За счет поразительной плотности и лапидарности своего языка Юз Алешковский успевает тут живописать и жизнь в коммунальной квартире, и обстановку советского института, и порядки на зоне, и быт и хитрости профессионального карманника, и даже похороны Сталина — но под весьма своеобразным углом:
А тут Сталин дал дубаря. Пробрался я к международному урке. Он на Пушкинской жил. Свесились из окна, косяка на толпу давим. Ну и народу! У меня аж руки зачесались, несмотря что завязал. Каша. Один к одному. Я бы в такой каше обогатился, падлой быть, на всю жизнь, дай он дубаря лет на пять пораньше. Для нашего брата карманника раз в сто лет такой фарт выпадает. Урка международный тут и припомнил, как он на Ходынке щипал, царя когда короновали, Николу. Мальчишкой еще был, а на триста рублей золотом наказал фраеров каких-то.
Откуда такое знание блатного языка? Из самого народа, среди которого Юз Алешковский, сейчас уже известный как бард, писатель и крупная фигура литературной богемы, в юности провел много времени. С 1950 по 1953 он провел три года в лагере — не за карманные кражи, как герой его повести, а за угон автомобиля — а потом несколько лет был рабочим и водителем.

Тогда он и начал писать стихи и песни, самыми известными из которых являются лагерная баллада «Окурочек» и, можно сказать, гимн диссидентуры «Товарищ Сталин, вы большой ученый», которую исполняли не только тысячи бородачей в свитерах, но включал в свой репертуар и Владимир Высоцкий. Автор песни долгое время был неизвестен; но в 1978 после публикации в альманахе «Метрополь» Алешковскому пришлось бежать из СССР.
Яростной антисоветчины предостаточно и в «Николае Николаевиче». Есть прекрасный отрывок, где над героем проводят эксперименты — какая литература положительно влияет на эрекцию, а какая отрицательно? Для автора это прекрасная возможность оттоптаться на советской литературе:
Но вот совершенно не стоял у меня, словно это мочка уха была отмороженная, а не боевой топор, знаешь от чего? Отвечу коротко: от книг, не похожих друг на друга, как день и ночь. От всего соцреализма, и от самых неожиданных книг. <…> Все они, повторяю, на одно лицо, и стоит, ты уж поверь мне, одолеть страниц двадцать, как чуешь, что из тебя клещами душу вытягивают, опустошают тебя, то неумением интересно придумывать, то такой парашей, что глаза на лоб лезут. А главное, все они стараются так прилгать, чтобы казалось нам самим и в ЦК: ох, и приличная жизнь в советской нашей стране. Ох, и работают на совесть рабочие и крестьяне. Еще смена не кончилась, а они уже вздыхают: скорей бы утро — снова на работу! Парашники гнусные. Меня-то не проведешь за нос: я уже повидал житуху на всех концах СССР. Но хрен с ними. От них и не должен вставать.

Но повесть следует читать не по политическим мотивам, а потому что этот бестселлер самиздата — великолепный образец образного русского блатного языка, который способен за одно прочтение преподать кучу уроков семантики. Именно за языком идет повествование Алешковского, позволяя через разные регистры, от разных действующих лиц раскрывать разные стороны языка. Как писал о Юзе его многолетний друг Иосиф Бродский, «повествовательная манера Алешковского принципиально вокальна, ибо берет свое начало не столько в сюжете, сколько в речевой каденции повествующего. Сюжет в произведениях Алешковского оказывается порождением и заложником каденции рассказчика, а не наоборот…» А Алешковский слышит наш язык, по выражению того же Бродского, «как Моцарт»:
Ты знаешь, лох, говорит урка, сколько я посольств перемолотил за границей? В Берлине брал греческое и японское, в Праге, сукой мне быть,— немецкое и чехословацкое. Но в Москве — ни-ни! Только за границей. Я ведь что заметил: когда прием и общая гужовка, эти послы, ровно дети, становятся доверчивыми. В Берлине я с Феденькой-эмигрантом — он шоферил у Круппа — подъезжал к посольству на «мерседесе-бенчике». На мне смокинг и котел, чин-чинарем. Вхожу, говорит урка, по коврам в темных тапочках на лесенку, по запаху канаю в залу, где закуски стоят.
Самое главное в нашей работе — это пересилить аппетит и тягу выпить. А послы мечут за обе щеки. На столе поросята жареные, колбасы отдельной — до ***, в блюдах фазаны лежат, все в перьях цветных, век мне свободы не видать, говорит, если не веришь. Попробуй тут удержись — слюни, как у верблюда, текут, живот подводит… В Берлине вшивенько тогда с бациллой (едой – ред.) было. Все больше черный да черствый. Но работа есть работа — просто так щипать я и в Москве мог.
Выбираю посла с шеей покрасней и толстого. Худого уделать трудно, он, как необъезженный, вздрагивает, если прикоснешься, и глаза косит, тварь. Выбираю я его, с красной шеей, в тот момент, когда он косточку обгладывает поросячью или же от фазана. Обгладывает, стонет, вроде кончает от удовольствия, глаза под хрустальную люстру вываливает, падаль. Объяви ты его родному государству войну — не оторвется от косточки.
Тут-то я, говорит урка, левой вежливо за шампанским тянусь, а правой беру рыжие часы или лопатник с валютой. Куда там! Исключительно занят косточкой. Теперь вся воля нужна, чтобы отвалить от стола с бациллой. Отваливаю. Феденька уже кнокает меня у подъезда. Подает шестерка котелок. Я по-немецки выучил, трекаю — себя называю. Другой шестерка орет: «Машину статс-секретаря посольства Козолупии!» Феденька выруливает, и мы солидно рвем ужинать. Нагло работали. Кому я мешал? Я же враждебную дипломатию подрывал и даже не закусывал.

Не буду раскрывать всех сюжетных поворотов повести, которая на всем протяжении уникальным образом удерживает внимание читателя — то мрачными лагерными историями, то исторической подробностью, то залихватским уличным языком послевоенной Москвы. В общем, могу честно пообещать словами самого автора:
Вот послушай. Я уж знаю: скучно не будет. А заскучаешь, значит, полный ты мудила и ни *** не петришь в биологии молекулярной, а заодно и в истории моей жизни.
ПРИМЕЧАНИЕ для тех, кто будет читать с экрана: самый распространенный в сети вариант повести (заканчивается словами «Учти это, сука!») обрезан примерно на шестую часть. Полный текст заканчивается словами «Давайте их обрабатывать».
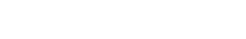

Вещь просто неимоверно оровая, подыхал со смеху когда читал
А где полный текст на экран взять? Хочу!
на рутрекере есть в начитке
да. Алешковский да Подеревянський… наше всё…